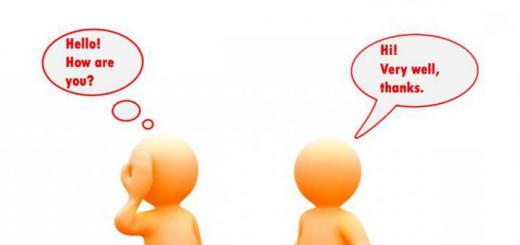Дом-музей Марка Твена: впечатления

Предчувствия
Город Хартфорд - местечко между Нью-Йорком и Бостоном. Я собираюсь в номере двухэтажной уютной гостиницы в Музей Марка Твена и даже не удивлена своей утренней рыжей гостье, потому что еще с вечера жду чего-то особенного. Предчувствие хорошего поселило во мне готовность к улыбке. А добрые знаки не оставляют меня: на тропинке, почти у дома писателя, прижались к земле два серых зайчонка. Даже ушами не вспрянули - идешь себе и иди. Иду!

Забор как часть торжеств возник не случайно. Общаясь с американцами, я не раз видела в них постоянную устремленность начать или поддержать игру, будь то разработка какого-либо важного проекта или проведение научной конференции, и, конечно, на вечеринке и при посещении выставки или музея.

""Мерка - 2!""




Здесь родился Том Сойер
Соседка и 13 кошек
""Инцидент с Горьким""
Хартфорд - Нижний Новгород Десять лет Нижегородский государственный музей А.М. Горького поддерживает творческие и дружеские связи с Музеем Марка Твена в США (штат Коннектикут, г. Хартфорд), начало которым положило посещение американского музея директором музея А.М. Горького Тамарой Александровной Рыжовой.
В предлагаемом очерке - наблюдения, заметки, связанные с американским литературным мемориальным музеем, похожим и во многом совсем не похожим на музеи России.
Предчувствия
Мы обе замерли, глядя друг на друга: Внезапно ее хвост мелькнул перед моим носом и упорхнул куда-то повыше. Этот неожиданный упругий беличий прыжок с открытого гостиничного окна в Хартфорде остался в памяти как часть моей американской осени. Невозможно было представить золотую пору богаче нашей, но осенняя Америка раскрашена по-другому: вроде на деревьях тот же красный или желтый цвет, но ярче, чем наш, без оттенков. Насыщенное голубизной небо, лимонная или алая листва соединяются в колоритный импрессионистский набросок. Все вокруг приняло на себя единое экзотическое одеяние, напоминающее боевой раскрас аборигенов - здешнюю осень не случайно называют индейской.
Город Хартфорд - местечко между Нью-Йорком и Бостоном. Я собираюсь в номере двухэтажной уютной гостиницы в Музей Марка Твена и даже не удивлена своей утренней рыжей гостье, потому что еще с вечера жду чего-то особенного. Предчувствие хорошего поселило во мне готовность к улыбке. А добрые знаки не оставляют меня: на тропинке, почти у дома писателя, прижались к земле два серых зайчонка. Даже ушами не вспрянули - идешь себе и иди. Иду!
А поскольку я зритель в музее не случайный, кое-что читавший, подготовленный, то ищу известное мне: пень того библейского дуба-великана, который, как я знаю, стоял когда-то у дома Марка Твена и был свален пилой в год юбилея писателя. Дуб лежал, как я читала, у дороги с двумя обрубками вет вей, ""как распятие после Голгофы"". На страницах нашей печати он, этот дуб, был превращен в символ непонимания Америкой глубины Марка Твена. У нас подозревали устроителей юбилея в желании растворить память о бойце-демократе, свободолюбце и реалисте в забавных мелочах. Америку упрекали за то, что из Марка Твена-сатирика, презиравшего стяжательство, борца с расизмом, с ""любителями воткнуть американский флаг в чужую землю"", сделали зрелище - восковую фигуру для Мак-Айленда, увеселительного парка на Миссисипи.
По живым газетным описаниям я представляла этот бесконечный миллионный поток гуляк-зевак, жующих жвачку и платящих по пять долларов за просмотр сомнительных чудес: ""Речные катастрофы. Паровой двигатель. Марк Твен. Аквариум"". Восковые фигуры шокируют меня своим сходством с оригиналом, излишней омертвелой натуральностью, а потому в мое представление впечаталась жутковатая картина: в полутемной комнате в деревянном кресле-качалке сидит в белом костюме седой старик из воска. Но вот кресло начинает раскачиваться, внутри старика (о боже!) что-то щелкает и изо рта идет дым, а потом механический голос произносит грубоватые матросские шуточки. Надпись под всем этим: ""Марк Твен"".
Рассматриваю по дороге особняки с огромными зеркальными окнами. Может быть, здесь живут те, кто участвовал в умопомрачительном действии, во время которого были прочитаны вслух все книги Марка Твена. Читали день и ночь, падали в обморок: Что и говорить - рекорд!.. Среди всех этих выдумок одна мне особенно пришлась по душе: в штате Коннектикут, в парке, выстроили длинный забор, и каждый мог его побелить, как Том Сойер. Наши былые официальные писательские, а особенно горьковские, юбилеи - с начальственным президиумом и официальными речами в больших залах - Америке, красящей забор в честь своих любимых автора и героя, тоже показались бы, наверное, фантастическими.
Забор как часть торжеств возник не случайно. Общаясь с американцами, я не раз видела в них постоянную устремленность начать или поддержать игру, будь то разработка какого-либо важного проекта или проведение научной конференции, и, конечно, на вечеринке и при посещении выставки или музея.
Нашему музею игра в сочетании с умным материалом пока не очень дается, но потребность в легкости есть. А что касается чтения в музее - мы это сделали! Выбирая определенные страницы, человек отыскивает близкое себе, говорит о себе через писателя, его образами и словами, определяет нечто для себя и в себе - что может быть уместнее для литературного музея? Однако наше чтение - не до обморока, а как часть давней русской семейной традиции чтения за столом, когда чтение прерывается, что-то повторяется, обдумывается, когда все вместе переживают одно: слово писателя.
""Мерка - 2!""
""Марк Твен!"" - так кричал молодой лоцман Сэмюел Ленгхорн Клеменс, ведя судно по Миссисипи. Это означало: ""Мерка - 2!"", а раз так, то тут достаточно глубоко, и судно не уткнется носом в дно реки. Он был вынослив, энергичен и смешлив, этот Сэм Клеменс, и уже кое-что повидал в жизни: бросил школу из-за ранней смерти отца, судьи в городке Ганнибал, зарабатывал на кусок хлеба учеником наборщика в газетах, где и пробовал себя в литературе.
Свою удачу он пытался поймать на серебряных приисках Невады и на золотых - в Калифорнии; подвизаясь репортером, ловил ловкое слово и соленые шуточки, то, что известно как ""дикий юмор"". Свои лаконичные юморески он подписывал привычным лоцманским возгласом, пропитанным свежим запахом речного ветра, который мы в России знаем как веселое имя - Марк Твен.
В 1867 году Марк Твен на пароходе ""Квакер-Сити"" отправился в Европу и Палестину. Из Франции, Греции, Италии, Турции, Крыма шли в Америку его репортажи, которые через год были изданы отдельной книгой ""Простаки за границей"". Критика шумела в восторге от фольклорного юмора, от того, что в каждом слове была гордость за Новый Свет, так отличающийся от Европы с ее ""мракобесием"".
Именно после этого путешествия, в период успеха своей первой книги, Марк Твен познакомился с дочерью богатого углеторговца Оливией Ленгтон и сумел добиться ее руки, несмотря на свои скромные доходы. В 1870 году брак был заключен, и супруги Клеменс переехали в Хартфорд, где пока никто не заготовил им собственного жилья, все предстояло сделать самим, опираясь на свои силы и, разумеется, на небедное приданое.
Пароход, крепость или часы с кукушкой?
Такое место жительства, как дом Марка Твена - ""отчасти пароход, отчасти средневековая крепость и отчасти часы с кукушкой"", не может не заинтересовать читателя. В таком жилище даже в самой серой, без полетов, голове могут родиться дерзкие фантазии. Что уж говорить о знаменитом хозяине:
Знакомит меня с домом Дебора, научный сотрудник музея. Спокойная и уверенная манера говорить, одежда - как у большинства наших русских коллег. Из ее рассказа, из путеводителей узнаю, что Марк Твен в 1873 году купил участок земли на восточной окраине Хартфорда, считавшейся тихим, укромным местечком. Для проектирования дома был нанят Эдвард Поттер, архитектор из Нью-Йорка. Миссис Клеменс, хозяйка будущего дома, собственноручно начертила схему расположения комнат и обратила внимание на то, какой вид должен быть из окон каждой комнаты.
В основном строительство было закончено в 1874 году, и чета Клеменс переехала в новый дом в сентябре того же года, вдохновленная надеждами на счастье и благополучие. Однако содержать дом оказалось сложно: расходы явно превышали финансовые возможности семьи. Продолжать благоустройство дома было не на что: несколько комнат остались без обоев и обстановки. В дом были вложены гонорары от книг ""Закаленные"" (1872), ""Позолоченный век"" (1873), от сборника ""Старые и новые очерки"" (1875).
Все изменилось после успеха первого самостоятельного романа Марка Твена ""Приключения Тома Сойера"", принесшего ему всемирную славу. Многочисленные туры с лекциями, чтениями книги поправили ситуацию с домом: было увеличено крыло, где располагалась кухня, основные комнаты полностью переделала известная фирма по дизайну интерьера ""Ассоциация художников"", в которой работали Луи Тиффани (да, тот самый, витражи и лампы которого так модны сейчас!), Локвуд де Форест, Кандас Вилер, Сэмюел Колман.
Работая с заказом, Эдвард Поттер, талантливый архитектор, музыкант и писатель, старался открыть декоративные возможности кирпича, меняя направление, угол, проекцию кладки; украсил поверхность стены черными и яркими красными орнаментами.
Комнаты, находившиеся в выступах дома, были надстроены до башенок и превратились в открытые чудные веранды, откуда можно любоваться окрестными красотами.
Деревянные элементы дома проработаны самым тщательным образом, что вполне соответствует ""брусочному (деревянному) стилю"" 1870-х годов. Применение натуральных красок (кобальта, умбры) в декоре дверей и веранды, орнаменты с бабочками и лилиями на воротах и калитке, использование для оформления интерьеров множества растений - все это создавало потрясающий образ писательского дома. Иду по дому. В темной прихожей Дебора рассказывает о реставрации дома, ставшего музеем в 1974 году, - замечаю, что Музей-квартира Горького старше всего на три года. Она точечным фонариком отмечает на потолке те места, которые сохранились еще со времен Марка Твена. Роспись серебром, красные стены с темно-синим узором напоминают рисунки индейского текстиля (возможно, создано Тиффани). Камин, украшенный резными деревянными деталями, изготовленными в Индии, и вставками красноватого мрамора с медными накладками, выполненными по задумке Марка Твена, производит сильное впечатление своей необычностью и роскошью.
Элегантные медные и эмалевые осветительные приборы, английская изразцовая плитка, серебряные украшения в комнате для гостей, рассеянный верхний свет в ванной, дающий превосходное освещение и ощущение уединенности, оранжево-розовые стены с серебряной росписью в гостиной - все только усиливает великолепие дома. Рассматриваю огромное зеркало гостиной: оказывается это свадебный подарок Клеменсов. Оно первоначально было в розовой с золотом раме с фарфоровой головой льва наверху, но после переделок 1881 года раму перекрасили: не гармонировала с новой обстановкой.
Столовая, поначалу имевшая неброские стены, с 1881 года оклеена богатой красно-золотой бумагой с выпуклым рисунком в форме лилий. Двери из орехового дерева покрыты изящными тонкими узорами в китайском стиле. Камин столовой (авторская работа Тиффани) декорирован дорогой керамической плиткой и полированными медными пластинами в скромной деревянной раме.
Марк Твен, по-видимому, наслаждался своим домом: ""Как безобразны и безвкусны интерьеры, которые я видел в Европе, по сравнению с отличным стилем этого нижнего этажа, с его восхитительной цветовой гармонией, его все пропитывающим духом умиротворенности, безмятежности и глубокой удовлетворенности"", - писал он в 1892 году.
Заглядываю в спальню... Эту фундаментальную вещь нужно видеть! Писатель приобрел кровать в Венеции в 1878 году как антикварную вещь шестнадцатого века и почитал за самое удобное ложе, которое когда-либо имел. Правда, его маленькие дочери пристрастились отвинчивать от изголовья деревянных ангелов и играть ими в куклы, но, когда ангелы возвращались на место, то казалось, что они навевают приятную дрему. Фантастически затейлива спинка кровати с цветами, плодами и амурами. Твен заплатил за кровать бешеные деньги. Он любил в ней читать, работать и всегда ложился головой - ""в ноги"": - Надо же мне видеть за что такие деньги уплачены!
Дебора, наша коллега, к которой я испытываю родственные профессиональные чувства, лукаво замечает, что кровать Марка Твена не была старинной вещью, это всего лишь искусная подделка: писателя ловко надули, но он так и не узнал об этом.
Да, Твен любил деньги, стремился к богатству - и в тоже время зло смеялся над собой за это. Брожу по его комнатам и думаю, что он, наслаждаясь домом, временами, наверное, томился в этой роскоши, в великолепии художественных интерьеров. Иначе чем объяснить, что именно здесь появились те его книги, которые мир назвал романтическим эпосом реки Миссисипи? В этом доме он пережил свою ""болдинскую"" пору, создав семь лучших книг. В каждой из них герои вихрасты, свободны и не обременены деньгами. Богатство для писателя - это ведь не только необходимое, но и много лишнего: не оно главное для творческого человека! Однако и не лишнее:
Детские продуманы и уютны. Обои в них созданы английским художником Вальтером Крейном и представляют собой иллюстрации к сказке о приключениях лягушки, камин украшен сказочным барельефом ""Похороны петуха Робина"".
Классная комната первоначально планировалась как кабинет писателя, но была отдана детям и их гувернанткам. Форма оконных проемов выполнена по идее Марка Твена, который увидел подобное в одном из монастырей во время своего путешествия по Европе. Украшения для стен и потолка были изготовлены в Эльмире, в 1879 году, автор - декоратор Фредерик Швеп. Еще одна деталь от Марка Твена в декорировании интерьера: индейские пальмовые веера над пианино. Они были куплены писателем для детей и использовались ими в домашних театральных представлениях.
Марк Твен поселился в доме тридцатилетним, полным сил и замыслов. Дом, который он построил, вобрал в себя не только его писательские гонорары, но и его художественные устремления, впечатления от мира, воспоминания. ""Ассоциация художников"", ставшая со временем лидером в направлении американского ренессанса в декоративном искусстве, была его изумительным партнером в конструировании этого особенного, индивидуального мира. Художники ""Ассоциации"", конструкторы интерьера, не принимали традиционных европейских стилей, смело вводили в работу стекло, металлические краски, металл, использовали мотивы, таящиеся в природе, утонченную гармоническую гамму цветов. Они нашли друг друга: писатель и эти новые художники.
Здесь родился Том Сойер
В своем дивном доме Марк Твен с семьей прожил два десятилетия. В его письмах встречаются мысли, которые как бы проецируются на те комнаты, по которым прохожу сейчас я. ""Женитьба - да, это высшее счастье в жизни: Но это также и величайшая трагедия жизни. И чем глубже любовь, тем глубже трагедия"". ""Я благодарен, благодарен, невыразимо благодарен за любовь, которую ты уже подарила мне. Я коронован, возведен на трон, помазан на царствование. Нахожусь в окружении королей"" - так пишет Сэмюэл Клеменс своей дорогой жене Оливии. Она подарила ему впоследствии трех детей. Единственный сын умер, дожив до трех лет, и в его смерти отец винил прежде всего себя. Не доглядел! Вывел на прогулку, не укутав по-настоящему: Простуда, болезнь, смерть. Похоронив сынишку, он, изживая боль, восполняя утрату, подсознательно обратившись к творчеству как к лекарству, начал писать о своем детстве, о мальчишках. Так в этом доме на страницах рукописей с тех пор поселился и начал испытывать терпение тети Полли Том, знавший, что когда его имя произносится полностью - Томас Сойер, это наверняка предвещает какую-нибудь неприятность.
""Приключения Тома Сойера"", прославившие автора, были благожелательно приняты и строгой профессиональной американской критикой, увидевшей в Томе Сойере юного дельца с его мечтами разбогатеть, с умением извлечь выгоду из житейских ситуаций - национальный тип делового американца. Но не забудем, что автор вложил в главного героя себя - подрывателя запретов и традиций, а поэтизация детского отношения к миру, добрый юмор сделали книгу особенной для современников и многих последующих поколений. ""Повесть для мальчиков надо писать так, чтобы она могла заинтересовать любого взрослого мужчину, который когда-либо был мальчишкой"", - говорил писатель. Своего ""Тома Сойера"" он считал ""гимном детству, переложенным прозой"". А может быть, это трогательная лирическая поэма в прозе?
""Прежде чем исчезнуть, девочка перебросила через забор цветок - анютины глазки. Том подбежал к забору и остановился шагах в двух от цветка, потом прикрыл глаза ладонью и стал всматриваться куда-то в даль, словно увидел в конце улицы что-то интересное. Потом поднял с земли соломинку и начал устанавливать ее на носу, запрокинув голову назад: двигаясь ближе и ближе, подходил к цветку и в конце концов наступил на него босой ногой, - гибкие пальцы захватили цветок, и, прыгая на одной ноге, Том скрылся за углом, но только на минуту, пока засовывал цветок под куртку, поближе к сердцу, - а может быть, к желудку: он был не слишком силен в анатомии и не разбирался в таких вещах"".
""Приключения Гекльберри Финна"" писались десять лет и были как будто продолжением ""Тома Сойера"", но Гек видел жизнь уже по-другому: жестче, контрастнее. Книгу сочли опасной, никчемной, обвинили в оскорблении негритянского населения (?!), запрещали. Запрет на нее существует и до сих пор в ряде американских штатов. Так не угодил писатель своим соотечественникам юным бродягой, борющимся за свободу своего чернокожего взрослого друга.
В хартфордском доме появилась повесть ""Принц и нищий"" (1882) об условности социального статуса, роман ""Янки из Коннектикута при дворе короля Артура"" (1889) - вещь весьма загадочная: с одной стороны, пародия на рыцарский роман, от которого пошел в литературу прием путешествия во времени; с другой - следствие, как говорят, некоего таинственного происшествия с самим писателем, связанного с его личным опытом ""перемещения"" во времени: И если правда, что информация не исчезает в мире бесследно, то дом Марка Твена, может быть, хранит в себе что-то весьма особенное:
Надо пройти вверх по деревянной лестнице в бильярдную, изолированную от ежедневных забот и работ по дому, чтобы оказаться там, где работал Марк Твен. Сюда не доносились возня и крики детей, и комната постепенно стала превращаться в рабочий кабинет хозяина. Здесь он - простачок не скажешь, ""простак"", а на самом деле великий маэстро слова, смешной похвальбы, уничтожающих определений, писал в былые времена об особом уделе Нового Света, чуждого противоречиям старушки Европы. Позднее - с повести ""Простофиля Вильсон"" (1894), о мудреце, которого осмеяли - Марк Твен разочаровывается в буржуазной демократии (""большинство - всегда неправо""), отвергает патриотизм по-американски (""Торгашеский дух заменил мораль, каждый стал патриотом своего кармана""). Он восхищался русскими революционерами, приветствует приехавшего в Америку писателя-бунтаря Горького, пишет свою любимую книгу о Жанне д, Арк, публикует дерзкие политические памфлеты против американской империалистической политики, против русского царя.
Потолок бильярдной украшен росписью с трубками, сигарами, бильярдными киями, как и на полупрозрачных панелях южной стороны, где имеется дата возведения дома. Из комнаты - выход на веранду. Сейчас двери открыты: дом вливается в многоцветье осени. Колкий ноябрьский воздух бодрит, побуждает к действиям. Я пытаюсь сфотографировать кабинет писателя. Дебора осуждающе предупреждает: нельзя. Я как-то на ходу машинально щелкаю (фотография получилась что называется ""неожиданный ракурс"": с корзиной для мусора). Потом в музейном магазине я понимаю, почему запрещены съемки: фотографии - значительная часть дохода - идут по 3-4 доллара. Даже сайт музея не имеет фотографий экспозиции (это товар музея); сайт предлагает общие сведения, рассказ о реставрации, рекламирует спонсоров, сообщает музейные новости.
:На клочке бумаги рукой писателя набросано: ""О, эта человеческая раса. Частенько приходится сожалеть, что Ной и его команда не опоздали на корабль"". А рядом - остроумная колкость: ""Я отказался посетить его похороны. Но я написал очень хорошее письмо, сообщающее, что я их одобряю"".
Эта бильярдная с письменным столом, эти оранжевые и красно-золотые стены дома оказались свидетелями неожиданного краха Марка Твена, которым завершилось его двадцатилетнее пребывание в Хартфорде, отмеченное писательским успехом и семейным уютом. Окончательно разорилась его собственная издательская фирма, он увяз в долгах. Чтобы выйти из ситуации, он прибегает к испытанному приему: едет на выступления в кругосветное путешествие. Измучившись на лекциях в Австралии, Индии, Африке, он возвращается домой к страшному удару: умирает его любимая дочь Сюзи.
Через некоторое время умирает жена Оливия, потом внезапно - его вторая дочь Джин. Лирическим героем убитого горем позднего Марка Твена становится Сатана (повесть ""Таинственный незнакомец""). Эта вещь не для заработка, здесь ""все без оглядки"" о людях, их обольщениях, слабостях. Повесть не была опубликована при жизни. Но ее он считал своей главной книгой.
В современном мире нет потомков Марка Твена (поневоле начинаешь строить догадки: за что?), а по соседству стояло и стоит другое писательское жилище - дом Гарриет Бичер-Стоу, поддерживаемый ее огромным семейным кланом.
Соседка и 13 кошек
Город Хартфорд - многоступенчатое сооружение: улицы его расположены на разных уровнях. Он сегодня, как и при Марке Твене, - обитель, гнездо крупного капитала, страхового бизнеса. Квартал, где жили Клеменсы, был явно престижным: ""Каждый дом находился в центре зеленого участка величиной примерно в акр"". Заборы здесь были не приняты. Ближайшей соседкой Марка Твена волею судьбы оказалась писательница Гарриет Бичер-Стоу, создавшая одну единственную книгу - ""Хижина дяди Тома"", много раз переиздававшуюся в России. Правда, у нее была еще одна книга, но это - пособие для домохозяек, что представляет особый жанр, не входящий в ""высокую"" беллетристику. Сейчас в ее доме тоже музей, который содержат потомки, родственники - их более ста сорока человек. Как я поняла, это своеобразный, активно работающий феминистский центр.
Из-за отсутствия заборов мне так и не удалось разобраться, где заканчивается земля семьи Клеменс, а где начинаются владения соседки. Оба дома прочно осели в ухоженном зеленом газоне с группами кустарников и деревьев. В этих местах не свершилась бы ""заборная"" история из-за отсутствия объекта: ""Том появился на тротуаре с ведром известки и длинной кистью в руках. Он оглядел забор, и всякая радость отлетела от него, а дух погрузился в глубочайшую тоску. Тридцать ярдов дощатого забора в девять футов вышиной! Жизнь показалась ему пустой, а существование - тяжким бременем"".
Однажды Марк Твен побывал в гостях у Гарриет Бичер-Стоу. Когда он вернулся домой, жена ужаснулась: ""Как? Ты был без воротничка и галстука?!"" Он сложил воротничок и галстук в пакет и отправил его Бичер-Стоу с сопроводительной запиской: ""Прошу принять явившиеся к Вам с визитом дополнительные части моей персоны"". Он, видимо, надеялся на понимание и юмор своей коллеги, которую, по-видимому, ценил за знания в области домоводства. Во всяком случае стоит заметить, что в его доме оранжерея возникла в 1896 году, хотя и по эскизам Ч. Хасама, но в полном соответствии с рекомендациями писательницы-соседки.
Возвращаемся в уже знакомый нам дом Марка Твена и осматриваем оранжерею. Рядом со скользящей дверью стояла статуя Евы работы К. Герхарда, чью учебу за границей оплачивал писатель.
Самое время обратить внимание на цветы и пальмы мемориального музея: они, оказывается, приходятся внучками и правнучками тем историческим, за которыми ухаживали еще жена и дочери писателя. Чтобы заселить дом-музей родной ему флорой, наши американские коллеги взяли черенки и отростки комнатных растений у потомков врача, который лечил семью Клеменс, а тот в свою очередь брал отростки в доме Марка Твена.
По деревянным чуть поскрипывающим половицам продвигаемся по дому дальше. О! Комната тещи! Действительно, у этих дверей есть о чем побеседовать: она не сразу решилась выдать замуж свою дочь за курящего, пьющего, грубоватого, но такого симпатичного (!) молодого писателя, однако с годами они стали настоящими друзьями. Вполне вероятно, к огорчению многих американцев, при других отношениях кто как не он - с его-то языком - смог бы такое про тещу сказануть! Но Клеменс и его теща, в основном, сосуществовали вполне мирно. А это что-то знакомое: Одна из кроватей покрыта лоскутным одеялом - ну родной ""Домик Каширина""!
Дебора говорит, что не восстановлена пока комната прислуги, но эта работа в плане музея. Говорим о возможности показа в мемориальном музее туалета. Музей Хемингуэя на Кубе показывает писательский туалет, в котором этажерка и полки с любимыми книгами. Мы и Музей Марка Твена воздерживаемся от показа этих укромных мест, хотя я вспоминаю, как там у Пушкина сказано, что каждому интересно видеть литератора:
Нет такого музея, где бы въедливый посетитель не переспрашивал: ""А это подлинное?"" Здесь треть экспозиции - подлинники, в том числе и старый телефон, который по этой причине стоит разглядеть пристально. Клеменс-предприниматель однажды рискнул вложить деньги в новое дело - в телефонную компанию, хотя полной уверенности в успехе не было, все же этот телефон - первый в Хартфорде, был установлен у него.
Достоверно в доме-музее все, но, слава богу! - не запах: у семьи Клеменс было четыре собаки и тринадцать кошек: На камине - парадный портрет кота в гофрированном воротнике: он герой многих сказок и историй, сочиненных хозяином дома для своих и чужих детей.
""В комнату вошел теткин желтый кот, мурлыча и жадно поглядывая на ложку, будто просил попробовать. Том открыл ему рот и влил туда ложку лекарства. Питер подскочил на два метра кверху, испустил дикий вопль и заметался по комнате, налетая на мебель, опрокидывая горшки с цветами и поднимая невообразимый шум. Потом он встал на задние лапы и заплясал вокруг комнаты в бешеном веселье, склонив голову к плечу и воем выражая неукротимую радость. Потом он помчался по всему дому, сея на своем пути хаос и разрушение"". Нет, не появились бы эти строки у Марка Твена, если бы не постоянное общение с семейством кошачьих в собственном доме.
Теперь мне не кажется странным, что Центр по исследованию Марка Твена отмечал его юбилей фестивалем кошек: ""в честь величайшего кошколюба в истории американской литературы"".
Мистер Боэр, директор, и другие
С директором музея мистером Джоном Боэром мы встретились в зале бывшего каретника. Сейчас это служебное помещение, актовый зал, который иногда сдается ради прибыли. На обоях табачного цвета обнаруживаю рукописные строки, не без смысла и игры, несколько афоризмов Марка Твена: ""Честность была когда-то лучшей политикой"", ""Корень зла - в отсутствии денег"". Рядом с директором - председатель совета попечителей музея Дэвид Кларк. Этот тандем вполне в духе того, о чем читаешь на стене: ""Богатство - лучший защитник ваших принципов"". Ведь что такое совет попечителей? Это обеспеченные люди, которые на благо обществу, не получая от этого прибыли, вкладывают свои деньги, добывают деньги на программы музея. Они тратят на музей и нечто бесценное - свои способности, энергию, время. Мистер Кларк, говоря о музейных буднях, ""подкалывает"" меня тем, что у них в музее билеты для иностранцев не дороже, чем для американцев, не то что в России. Что есть, то есть: мы все время помним, что налоги ""на музей"" иноземцы нам не отчисляют - вот и расплачиваются они наличными в музейной кассе.
Директор американского музея нанимается советом попечителей. В круге его забот - реставрация, сохранение дома-музея, который зарегистрирован как национальный исторический объект и имеет сейчас две главные награды Национального совета по сохранению исторических ценностей. А как же иначе? Дом Марка Твена - памятник культуры, литературно-мемориальная достопримечательность - и восстановлен еще и как памятник архитектуры, он - образец викторианского стиля Америки, он - и воплощение новаторского дизайна выдающихся американских архитекторов и художников. Награды музею - за возвращение историческому дому его облика, который отразил черты личности и стиль жизни именитого писателя.
Джон Боэр темпераментно раскладывает по полкам бюджет музея. Сейчас он составляет более полутора миллионов долларов. Государство? Штат? Нет, если и поступает что-то от государства, то это очень немного. Бюджет складывается из денег попечителей, членов совета музея, восемь процентов приносит неприкосновенный капитал, потом - входные билеты и музейный магазин. Неприкосновенный капитал - это деньги, оставленные музею по завещанию, или другой капитал, который музей не трогает, а только пользуется процентами своего вклада в банк. В Музее Марка Твена входные билеты 10-15 долларов (мне встречались и такие, где 30-40 долларов - это Детский музей в Бостоне, и система бесплатного посещения, и ""заплати сколько можешь"" - это Метрополитен).
Когда Джон увлекается рассказом, то становится очевидным, хотя это звучит банально, что он - выросший Том Сойер. И забор свой он красит так, что другим это хочется делать вместе с ним. Он по образованию - архитектор, гордится тем, что в своей семье высшее образование получил первым.
Он раскован и доброжелателен. Белая рубашка и элегантные подтяжки во время деловой встречи делают прием официальным наполовину. Больше дружеским. Джон темпераментно утверждает: ""Марк Твен сделал себя сам! Был удачлив и терпел крах, он восхищался капитализмом как системой, верил в эту систему и смеялся над ней. Но, бесспорно, дух предпринимательства был близок ему, и это должно жить и живет в музее. В чем я вижу миссию музея? Она в том, чтобы утверждать ценность наследия Марка Твена как одного из выдающихся национальных писателей, как фигуру, олицетворяющую культуру страны. Зачем вообще нужен любой музей? Чтобы человек смог лучше узнать себя, узнать именно о себе что-то новое. В Музее Марка Твена американец постигает себя как американца. Это несомненно. Музей важен для общества как носитель традиционного, устоявшегося, лучшего в культуре. Мы ведь массовой культурой искалечены. В Америке многие знают бейсболистов, но не ответят на вопрос, кто такой Джон Кеннеди, а не то что - Марк Твен"".
Меня почти не затронуло то, что коллега Джон говорил об образовательных программах - в наших музеях это традиционный вид работы, правда, требующий постоянных корректив. Некоторые музейные люди Америки, говоря о своей работе, замечают, что их девиз на сегодня: ""Искусство принадлежит народу"". Да! Кому принадлежат эти слова им прекрасно известно, но, опираясь на опыт России, они Владимира Ильича Ленина предпочитают не упоминать. Когда время от времени мы задаем себе вопрос, на что мы сможем ориентироваться в практике музеев США, ответ, на мой взгляд, отчасти парадоксален: конечно, на способность успешно делать свое дело в условиях рынка, и в том числе на тот наш прежний российский опыт, который они успешно внедрили в свою жизнь, действительно сделав музеи доступными людям, важными для жизни местных общин, связующим звеном в общении разных поколений. Мое внимание включается тогда, когда мистер Боэр говорит о работе музея с молодыми людьми, попавшими в тюрьмы. Они создали особую программу для заключенных подростков и серьезно, неформально работают с ними.
С удивлением узнаю, что нет Полного собрания сочинений Марка Твена и, видимо, не будет такового в ближайшие годы. Рынок! Деньги! Завершается, правда, тридцатитомник, что весьма отрадно.
Музей выпускает кое-что сам. Мне представляется ценной книга о реставрации дома, и очень любопытен периодический журнал музея ""Марк Твен - Новости"". Все это можно приобрести в музейном магазине, где продается только то, что имеет прямое отношение к теме музея: книги писателя, его фотографии, предметы быта викторианской эпохи, точнее, их подобия (например, ситцевая настольная подушечка с корицей - подставка под горячую чашку чая, открытки, письменные принадлежности и т.д.). Магазин находится в отдельном помещении: к сувенирам доступ как во всех магазинах самообслуживания, есть кассовый аппарат.
Директор музея рассказывает, что весной в Хартфорд регулярно съезжаются на конференции архитекторы, дизайнеры, зато осень принадлежит писателям и литературоведам. Недавно для обсуждения была выдвинута проблема ""Цензура в США"". Ведь ""Гекльберри Финн"" числится в запрещенных книгах во многих штатах Америки. И это было еще при жизни писателя. ""Прекрасно, это поможет продать дополнительно 25 тысяч книг"", - восклицал когда-то с оптимизмом Марк Твен. Для русского читателя запрещение этой книги выглядит странно. На памяти оценка Хемингуэя, считавшего, что вся современная американская литература вышла именно из этой книги Марка Твена. Но когда-то викторианцы не одобряли плохих манер героя, а потом во время борьбы за гражданские права темнокожие стали обижаться на слово ""негр"" в книге. Сейчас оно воспринимается в Штатах как оскорбительное, и бытовые ситуации быстро выучили меня даже в русской речи не произносить его - лучше ""афроамериканец"", хотя для нас ""негр"" - вполне нейтрально.
Мистер Боэр молод и горяч: он предлагал поставить для дискуссии тему: ""Негр: сила слова"", но начались такие баталии, что пришлось ограничиться разговором о цензуре.
В делах музея принимали и принимают участие видные журналисты, писатели, среди которых известный драматург Артур Миллер. По всему видно, что музей, его деятельность поддержаны творческой интеллигенцией, осознающей, что Марк Твен не только прошлое, но и настоящее в современной культуре Америки, мира.
""Инцидент с Горьким""
Слово за слово выходим на тему отношений Горького и Марка Твена. Пользуюсь ситуацией и дарю мистеру Боэру копию автографа Горького на той книге Твена, которую Алексей Максимович в свое время рекомендовал своему подрастающему сыну. Накануне моего отъезда в США внучка Горького М.М. Пешкова подарила книгу нашему музею, и теперь она - в детской Музея-квартиры писателя.
У Марка Твена Горький ценил многое, но особенно ""Тома Сойера"" и ""Гекльберри Финна"", писал, что это ""чудесные книги"", ""гениально отразившие романтику детского сердца"". Эпизоды соприкосновения биографий писателей известны в основном специалистам, а они складываются в историю, выводящую на размышления разных планов: об Америке, ее устоях, о России, о выходе Горького на мировую сцену, о его сложном отношении к Америке и американцам и т.д.
Встреча писателей произошла в 1906 году. Для Горького тогда поездка в США решала и проблемы общественные (сбор денег ""на революцию""), и проблемы безопасности (в России грозил арест), и проблемы личные. После семи лет совместной жизни со своей женой Е.П. Пешковой он расстался с ней, хотя официального развода и полного разрыва отношений не было, и связал свою жизнь с М.Ф. Андреевой. Она, преданная ему самозабвенно, оставившая ради него театр, согласилась следовать за ним за границу. Это было замечательно: она говорила на нескольких иностранных языках, он - ни на одном.
Они тайно пересекли финскую границу, прибыли в Берлин, где Горький выступал под восторженные крики ""Hoch!"", сумел пополнить кассу большевиков; потом - Париж, где писатель заявил Франции, что ему ""оскорбительна любовь буржуа"".
Впереди были Соединенные Штаты. В апреле 1906 года он с М.Ф. Андреевой сел в Шербуре на океанский пароход ""Кайзер Вильгельм"", который и доставил его на берега Нового Света. Российский посол в Вашингтоне советовал администрации применить к бунтарю закон, запрещающий въезд в страну анархистам. Однако по приезде писатель сказал, что уважает закон и порядок и находится в оппозиции к русскому правительству, которое сейчас представляет организованную анархию, сам же он - не анархист.
Во время первых интервью и выступлений М.Ф. Андреева была его переводчицей, как впрочем и позднее.
Горького ждали в Нью-Йорке: его произведения уже были переведены на английский, изданы в Великобритании и США. Сочувствуя миссии русского писателя, Марк Твен вошел в комитет помощи Горькому, выступил на обеде в честь русского гостя.
Твен и Горький были в центре внимания на многолюдном собрании, оживленно беседовали, получали удовольствие от общения. Марк Твен буквально ""захватил"" Горького, а тот смотрел на него ""восторженными, блестевшими из-под густых бровей глазами"" (Н.Е. Буренин). Отвечая Марку Твену на обеде, Горький сказал: ""День, в который я удостоился встретиться с Марком Твеном, - счастливый день для меня. Марк Твен известен во всем мире, но в России он известен больше всех американских писателей: Он - человек силы - один из тех, кто наносит очень тяжелые удары..."" (роковое наблюдение, как оказалось).
В газете ""Телигрэм"" появилось интервью с Горьким, в котором он признался, что Марк Твен его самый любимый писатель в США: ""Я читал его в ту пору моей жизни, когда за чтение меня били"". Сказал, что побои ""в сравнении с тем удовольствием, которое я получал от его прекрасных книг"", кажутся наказанием ""довольно легким"".
Радушный прием, внимание, успех вдруг (информация пошла от русского посольства: русское правительство не сдавалось) взорвались скандалом из-за того, что Горький и М.Ф. Андреева состояли в гражданском браке. Горький приехал в страну свободолюбивого прошлого, но и в страну строгих пуританских обычаев, о чем ему незамедлительно и резко напомнили.
Многие американцы отвернулись от него. Марк Твен тоже отступился от русского собрата по перу: он вышел из состава комитета, не отвечал на звонки. Репортерам объяснил: ""Когда Горький прибыл в нашу страну, нам казалось, что он будет той огромной силой, которая увлечет американцев: Русский народ всегда относился к его действиям как к безоговорочно верным. Однако в каждой стране существуют свои правила поведения: И когда кто-то приезжает из-за рубежа, то должен их уважать...""
Видимо, чувствуя все же неловкость ситуации, Марк Твен взялся за статью ""Инцидент с Горьким"", где попытался объясниться подробнее, но статью не закончил, не публиковал (она была напечатана лишь в 1944 году, когда оба писателя уже ушли из жизни). В ней читаем о том, что нарушить обычай ""много хуже, чем нарушить закон, потому что закон - песок, а обычай - это скала, сплав меди, гранита, кипящего железа"". ""Мужчина обязан появляться на публике во фраке"", - заметил Марк Твен, однако понимал, что его отступление от Горького в трудной ситуации не всеми будет понято однозначно.
Горький в одну из газет, желая оградить Марка Твена от нападок, написал: ""Не следует: нападать на почтенного Марка Твена. Это превосходный человек, но - он стар, а старики очень часто неясно понимают значение фактов...""
Вспоминая историю общения писателей, мы сошлись на том, что эта тема может быть интересна для новой передвижной выставки, которую готовит музей Марка Твена. Беру на заметку продуктивную выставочную идею американских коллег: выставка путешествует по разным странам, музеям, и каждая ""принимающая сторона"" берется дополнить ее новым стендом ""Марк Твен и:"", экспонируя свой материал. ""Марк Твен и Горький"" - по договору тема, оставшаяся за нами. В нашем музее работать над этой темой увлекательно: и Марк Твен, и Горький добывали ""сырье"" для своих книг ценой собственной жизни, в жизненных испытаниях, изучение которых важно для многих как опора в собственной жизни.
Их дуб и наш платановидный клен
Во время разговоров в музее я нет-нет да и возвращалась мысленно к тому, с чем я шла в этот дом, на что меня настраивали отечественные публикации прошлых лет. Своими глазами вижу другую картину: Музей Марка Твена собирается строить литературную экспозицию. Оказывается, и тот год, ""заклейменный"" как ""Америка без Марка Твена"", был временем создания юбилейной американской выставки ""Марк Твен"", которую создали очень серьезные партнеры: Марктвеновское научное общество, Смитсоновский институт. Выставка в течение пяти лет путешествовала по Америке, была представлена на Олимпиаде 1996 года. Есть надежда на то, что и мы увидим ее, о чем хлопочут координатор проекта ее показа в России - энергичная и предприимчивая Элейн Ульман. и наши коллеги - Музей Марка Твена, которых мы поддерживаем.
Мне не удалось отыскать в Хартфорде следы спиленного дуба у дома писателя, о чем писала в самом начале, но, думая о нем, я бы не согласилась с нашей ""юбилейной прессой"", увидевшей в поваленном дереве ""распятие"" памяти о великом писателе. Стоит здесь вспомнить, как это у Марка Твена: ""Если Вам не нравится погода - подождите несколько минут"". Подождали, и в собственной практике пришлось расстаться с деревьями-великанами, когда, подгнив, они стали опасной угрозой музейному зданию. Последний раз мы переживали утрату старого дерева на музейной территории летом 2004 года. Огромный платановидный клен высотой восемнадцать метров с кроной двадцать пять метров врос корнями в фундамент ""Домика Каширина"". Отваливались громадные ветви, обнаружилась пустота в стволе. Мы были перед выбором: сохранить мемориальный дом - памятник истории и культуры федерального значения, или клен - памятник природы регионального значения. Борьба ""лучшего с хорошим"". Выбрали дом.
Почти то же было и в Хартфорде. Поваленный дуб, действительно, знак, но я читаю его сегодня, исходя из реалий международной музейной практики, как символ заботы интеллектуалов Америки о своем культурном наследии.
Хартфорд - Нижний Новгород
Марк Твен. Афоризмы и шутки
Собрал Константин Душенко
Я не намерен портить отношений ни с небесами, ни с преисподней, – у меня есть друзья и в той, и в другой местности.
Марк Твен
НЕСКОЛЬКО ДАТ
1835, 30 ноября. В деревушке Флорида, штат Миссури, родился Сэмюэл Клеменс – будущий писатель Марк Твен. «Во Флориде тогда было сто человек жителей, и я увеличил население ровно на один процент. Не каждый исторический деятель может похвастаться, что сделал больше для своего родного города».
1839. Клеменсы переезжают в городок Ганнибал.
1850. Первые литературные опыты Сэмюэла в местной газете, которую издавал его брат Орион.
1853 – 1861. Сэмюэл Клеменс странствует по стране, работает лоцманом на Миссисипи. «Я из тех, кто в любую минуту бросил бы литературу, чтобы снова встать за штурвал».
1862. Твен – старатель в Неваде. «Я когда-то работал на золотых приисках и знаю все о добыче золота, кроме лишь одного: как заработать там деньги».
1863. Первая корреспонденция, подписанная «Марк Твен».
1867. Приезд в Нью-Йорк. Первый сборник рассказов Твена «Знаменитая скачущая лягушка».
1869. Книга Твена «Простаки за границей» имеет огромный успех.
1870. Женитьба на Оливии Лэнгдон. «Я настолько счастлив, что не могу без боли вспоминать о бессмысленно потерянных тридцати годах своей жизни. Если б мне пришлось пройти жизнь сначала, я бы женился сразу, не ожидая, пока у меня прорежутся зубы или когда я научусь бить посуду».
1871. Твен переезжает в Хартфорд (штат Коннектикут).
1876. «Приключения Тома Сойера».
1882. «Принц и нищий».
1885. «Приключения Гекльберри Финна».
1889. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».
1895 – 1896. Кругосветное путешествие с публичными чтениями – чтобы выплатить долги.
1907. Твен – почетный доктор Оксфордского университета. «Я явился на свет с кометой Галлея. Мне бы хотелось задержаться до ее возвращения и вместе с ней покинуть бренный мир».
1910, 24 апреля. Смерть Марка Твена. На небе, как и при его рождении, снова сияла комета Галлея.
МАРК ТВЕН О СЕБЕ
Я родился без зубов, и здесь Ричард III имеет передо мной преимущество. Зато я родился без горба, и здесь преимущество на моей стороне. Мои родители были бедными – в меру, и честными – тоже в меру.
Насколько я понимаю, вам желательно получить у меня сведения о том, как я впервые в жизни солгал и каким образом я из этой лжи выпутался. Я родился в 1835 году; сейчас мне уже немало лет и память у меня не та, что прежде. Лучше бы вы спросили, как и когда я впервые сказал правду, мне было бы куда проще на это ответить, так как эти обстоятельства я помню довольно отчетливо. Мое семейство уверяет, что случилось это на позапрошлой неделе, но это попросту лесть с их стороны.
Один из послеобеденных спичей Марка Твена:
Когда я был мальчиком, я ходил в школу, где употребление березовых прутьев не было чем-то необычным. Писать на парте строжайше запрещалось, под угрозой штрафа в пять долларов или публичной порки – на выбор. Однажды я этот закон преступил. Отец решил, что публичная порка слишком тяжелое испытание для меня, и дал мне пять долларов. В те времена пять долларов были немалой суммой, тогда как порка особых последствий не имела; вот таким образом... – здесь Твен стряхнул пепел со своей сигары и продолжил, – ...таким вот образом я заработал свои первые пять долларов.
Моя литературная судьба очень любопытна. Мне никогда не удавалось соврать так, чтобы мне не поверили; когда я говорил правду, никто не желал мне верить.
Я еще ни разу в жизни не сдержал данного мною обещания. Весьма вероятно, что под тот орган, который дает мне способность обещать , место было отведено с такой щедростью, что его не хватило для того органа, который давал бы мне способность выполнять обещания. Но я не горюю. Я ни в чем не терплю половинчатости. Я предпочитаю одну высокоразвитую способность двум обыкновенным.
Я мужлан из захолустного штата Миссури, с годами превратившийся в коннектикутского янки. Во мне слились нравственные принципы Миссури и культура Коннектикута. По-моему, господа, это идеальное сочетание.
О годах, когда было туго с деньгами:
Нужда рождает отвагу. Я не сомневаюсь, что если бы мне в то время предложили перевести талмуд с древнееврейского, я бы взялся, – и при этом я бы постарался за те же деньги внести в него как можно больше выдумки.
Я бы мог стать солдатом, если бы захотел. Я уже овладел частью военного ремесла: я знаю об отступлении больше, чем человек, который изобрел отступление.
Меня наградили орденом Почетного легиона. Впрочем, этого отличия мало кому удалось избежать.
Мне редко удавалось заметить удачную возможность прежде, чем она переставала быть таковой.
Я никогда в жизни не занимался физическими упражнениями, за исключением сна и лежания на диване.
Сейчас я не ленивее, чем был сорок лет назад, но это просто потому, что уже сорок лет назад я израсходовал свой лимит. Всему есть предел!
На 72-м году жизни:
В два часа ночи я чувствую себя таким же стариком, как и все. В это время жизнь в человеке еле теплится. В этот час я предельно грешен. Молодость и мужество возвращаются к шести часам утра.
Мои книги – вода; книги великих гениев – вино. Воду пьет каждый.
ОБ АДАМЕ И ЕВЕ
Адам и Ева имели перед нами много преимуществ, но больше всего им повезло в том, что они избежали прорезывания зубов.
Должно быть, Адаму и Еве было не так-то просто вести беседу: им не о ком было сплетничать.
Если бы змей был запретным, Адам и его бы съел.
Хорошо было Адаму! Если ему случалось удачно сострить, он мог быть уверен, что не повторяет старые шутки.
Будем же благодарны Адаму, благодетелю нашему. Он отнял у нас «благословение» праздности и снискал для нас «проклятие» труда.
Теперь я вижу, что заблуждался относительно Евы: лучше жить за пределами рая с ней, чем без нее – в раю.
ОБ АМЕРИКЕ
О Калифорнии времен «золотой лихорадки»:
По улицам сновали озабоченные толпы людей, всюду кипела работа, раздавался смех, музыка, брань, люди плясали, ссорились, стреляли и резали друг друга, каждый вечер к завтраку газеты сервировали своим читателям свежий труп – убийство и дознание, – словом, здесь было все, что украшает жизнь.
Сатана, обращаясь к пришельцу, раздраженно: «Вы, чикагцы, воображаете, что вы тут лучше всех; а на самом деле вас тут просто больше всех».
Красивейшие женщины, которых мы повстречали во Франции, родились и воспитались в Америке.
Хотя мы – скептически настроенные демократы, мы захлебываемся от счастья, когда нас замечает герцог; а когда нас замечает монарх, то мы до конца дней своих страдаем размягчением мозга. Мы изо всех сил стараемся умолчать об этих бесценных встречах, и порою некоторые из нас ухитряются держать своих герцогов и монархов про себя; это стоит нам немалых трудов, но порою это нам удается.
Прошел ровно век с четвертью с того времени, как бывший лоцман Миссисипского речного пароходства Сэмюэл Клеменс, который и псевдоним-то себе взял от специфической корабельной команды («mark twain!» значит «отметь двойную!», то есть двойную глубину забрасывания лота в фарватер), запустил своих героев, подростка по имени Гекльберри Финн и беглого негра Джима, в путь по главной реке Северной Америки. Навстречу свободе и туманному берегу американской мечты. Что будет, если попытаться проехать этим маршрутом сегодня?
Конечно, попытка в буквальном смысле «пройтись по стопам» двух друзей заведомо безнадежна. И дело тут не только в том, что за неимением посудины, на какой плыли лет сто шестьдесят назад Гекльберри Финн и негр Джим (в те неполиткорректные времена понятия «афроамериканец» еще не существовало), мы садимся в автомобиль. Ведь ирреальны и тот старый плот, и тот героический маршрут.
Правда, в иных местах «Гекльберри Финна» Марк Твен высчитывает расстояния, покрытые путешественниками за ночь, вычисляет скорость течения и т.д. Однако даже здесь писательская фантазия торжествует над реальностью. Если на первом отрезке продолжительность пути еще как-то укладывается в рамки возможного и разумного, то затем происходит сбой и время то стремительно ускоряет свой бег, то начинает топтаться на месте, и все расчеты идут насмарку.
Столь же бесплодными оказываются потуги совместить вымышленные, демонстративно однотипные Поквилл, Бриксвилл и Пайксвилл с подлинными городишками американского Юга, прилепившимися к берегам Реки Марк Твен далеко не всегда называет ее по имени.
Впрочем, если внимательно изучить биографию писателя, то точки соприкосновения между литературой и жизнью найдутся. Взять хотя бы родину твеновских мальчишек, Санкт-Петербург, в которой все исследователи готовы видеть
Ганнибал. Торговая марка «Гек Финн»В Ганнибале тогда еще не Марк Твен, а просто Сэм Клеменс очутился вместе с родителями в четырехлетнем возрасте, прожил какое-то время и с тех пор в детство и раннюю молодость почти не возвращался. Тем не менее возникает стойкое ощущение, будто городок, который вроде бы за минувшие сто семьдесят лет не слишком сильно изменился, как бы храня верность прославленному земляку, только и ищет повода, чтобы с ним расплатиться. Марк Твен не просто почетный гражданин города Ганнибал, штат Миссури, хотя грамоты такой и не существует, не просто его не стирающаяся с годами память, он его воздух.
Иногда эта не стесняющаяся проявлений любовь находит наивные формы. В Ганнибале две гостиницы, одна называется «Клеменс», другая «Марк Твен». Иногда формы монументально-помпезные.
Над городком господствует бронзовый Марк Твен с вершины холма озирает он речную даль, которую сам же и обессмертил в различных своих сочинениях. Увы, официальная торжественность подавляет, не дает выразиться душе героя, какой она рассеялась в его книгах и запечатлелась в сознании миллионов читателей разных поколений и разных стран. Мне этот Марк Твен напоминает Гоголя, которому поставило на бульваре его имени памятник советское правительство, вытеснив оттуда замечательную работу Андреева.
Однако же все остальное в Ганнибале живой, я бы даже сказал, свойский Марк Твен, или, если угодно, Сэм Клеменс.
Со стены дома, в котором устроилась вполне заурядная забегаловка, смешно таращится зеленая лягушка, та самая «знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» из одноименного рассказа, появление которого и знаменовало окончательную трансформацию лоцмана, а затем газетчика Клеменса в писателя. Естественно, и называется кафе «Скачущая лягушка». Проходишь мимо, и, кажется, вот-вот разыграется в лицах тот старый анекдот: лягушке-чемпиону по прозвищу Дэниэл Уэбстер набивают брюхо дробью, и она позорно проигрывает забег (запрыг?) какому-то жалкому лягушонку из близрасположенного болота.
Неподалеку ресторанчик «Бекки Тэтчер».
На соседней улице бар «Марк Твен».
И даже торговый центр (правда, это не в самом Ганнибале, а милях в десяти отсюда, в местечке со звучным именем Пальмира) называется «Гек Финн», хотя сложно усмотреть что-то общее между ним, маленьким бродяжкой, и почтенным коммерческим предприятием.
Еще на одной вершине, с северной стороны города, Ганнибал раскинулся на холмах, то карабкаясь вверх, то легко сбегая вниз, к реке, установлен маяк. Никогда по прямому своему назначению он не использовался, однако же, на мой вкус, это мемориальное сооружение, приуроченное к столетнему юбилею писателя, куда ближе его натуре, нежели хорошо видная оттуда тяжелая фигура в рост. И честно говоря, для меня это обстоятельство важнее, чем то, что изначально маяк был символически зажжен непосредственно из Белого дома самим Франклином Делано Рузвельтом , а после обрушения в результате налетевшего на здешние места урагана и последующей реставрации, оттуда же недавно избранным тогда новым президентом Джоном Кеннеди . Хотя местный люд этой честью весьма дорожит.
На окраине «Пещеры Марка Твена». Сейчас этот лабиринт, разумеется, часть туристического комплекса, со всеми необходимыми атрибутами указателями, скрытым в стенах освещением, обязательным проводником Началось же все с того, что некий Джек Симмс обнаружил вход в пещеру во время охоты в 1819 году: его собаки загнали пуму в какую-то расселину на поверхности лесистого известнякового холма. Лет тридцать спустя подросток Сэм Клеменс с упоением исследовал многочисленные проходы шрамы, оставленные на поверхности самой природой. По тем же каменным закоулкам сегодня водит туристов владелица этого участка земли, а следовательно, и нынешняя хозяйка пещеры Линда Колхерд пожилая, но очень подвижная, приятная во всех отношениях дама. Водит и поясняет: Вот крест, под которым Гек и Том откопали свой клад В этой пещере Том с Бекки наткнулись на целую гирлянду летучих мышей Здесь, намотавшись по подземелью, они присели на каменную ступеньку, и Бекки заснула, а здесь дети доели остатки своего свадебного пирога.
С окраин мы с фотографом Виктором Грицюком направились назад, в центр городка, совпадающий, скажем так, с центром Твенленда официально именуемого в справочниках: Mark Twain Boyhood Home and Museum. То есть учреждение вроде бы одно, но внутри есть перегородка, отделяющая музей писателя от дома его же детства.
Музей, в общем-то, как музей прижизненные издания книг, древняя (тогда, конечно, совершенно новая и вообще большая редкость) пишущая машинка, принадлежавшая писателю, страховой полис, мантия почетного доктора Оксфорда, оригиналы иллюстраций Нормана Рокуэлла к книгам Марка Твена, спорящие уровнем исполнения с оформительскими работами Обри Бердслея. Прекрасно, но мало ли в жизни своей видел я таких литературных мемориалов, дома и за границей. Какие-то получше, какие-то похуже.
А вот Дом детства это совсем другое дело. Клеменсы жили здесь лет десять, примерно с 1843 по 1853 год, и, переменив на своем веку не одного хозяина, скромное двухэтажное здание, наполовину увитое снаружи плющом, доныне хранит и благородную патину времени, и следы живого человеческого присутствия.Впрочем, сам этот дом лишь часть целого комплекса, где вплотную прилегают друг к другу еще четыре-пять его двойников. В одном, на втором этаже, помещался кабинет Джона Маршалла Клеменса, отца писателя. Этот виргинец, наделенный на редкость беспокойным нравом, заставлявшим его постоянно строить наполеоновские планы и то и дело ввязываться во всяческие финансовые авантюры, осел наконец в Ганнибале, где исправлял должность мирового судьи.
Рядом и, соответственно, прямо напротив семейного очага стоит особнячок с табличкой на фронтоне: «Дом Бекки Тэтчер». Здесь жила с семьей Лора Хокинс, с которой и списана возлюбленная соученица Тома Сойера.
Что еще? Ну, скажем, «Аптека Гранта» здесь действительно жил в середине позапрошлого века доктор Оливер Грант с женой, а некоторое время вместе с ними и семья Клеменсов. Здесь же мировой судья и почил в 1847 году.
Справа от семейного дома и аптеки невысокий забор. Ну и что? А то, что из указателя следует: это тот самый забор, за покраску которого Том Сойер столь хитроумно брал мзду с простофиль-сверстников. Крепко так стоит на месте и выкрашен отменно неужели и впрямь время оказалось не властно?Чуть поодаль от твеновского квартала виднеются две скульптурные фигурки Том и Гек. Американцы народ самолюбивый. Типичному туристу откуда-нибудь из Чикаго, да даже из крохотного Ганнибала, доныне, как и в ту пору, когда Марк Твен описывал своих «простаков за границей», кажется, что весь мир подражает Америке. Один остроумный и приметливый наблюдатель пишет, что, оказавшись, допустим, на Святой земле, увидев гору Сион, такой турист непременно воскликнет: «Ой, посмотрите, ну это же вылитый холм Зенит в Алабаме». Так что попавшееся мне в одном рекламном справочнике утверждение, будто вылепленные в 1926 году фигуры первый в мире памятник литературным героям, вызвало некоторое сомнение в своей достоверности. Но как раз в данном случае, как обнаружила проверка, скепсис оказался неусместен: даже памятник Дон Кихоту в Испании создан позднее. Впрочем, соревновательные мотивы суета. Главное сам выбор сделан безукоризненно: как никто, марктвеновские мальчишки воплощают американский дух приключений, американский порыв к свободе и саму Американскую мечту в ее мифологической неизъяснимости и прекрасной неосуществимости. Ибо что такое мечта осуществленная? Просто общее место.
«Ковчег Твена»А мы уже снова на колесах направляемся во Флориду, местечко в 3040 милях к юго-западу от Ганнибала, туда, где 172 года назад появился на свет Сэмюэл Ленгхорн Клеменс.
Здесь царит мертвая тишина. Редкие домики с зашторенными или даже забитыми окнами. Унылая церквушка, в которую, кажется, давно уже никто не заходил. Чуть в стороне запущенное кладбище. Как свидетельствуют справочники, во времена Марка Твена здесь жило человек семьсот, мелкие фермеры по преимуществу. Сейчас только дачники, хозяева этих самых, нынче пустых, домиков.
Да, но где же память о великом земляке?
А ее, оказывается, перенесли на милю или около того в сторону в виде двухкомнатной хибары, где и прожил в семье, состоявшей (включая служанку) из восьми человек, первые три года своей жизни Сэмюэл Клеменс. Называется теперь это сооружение вполне торжественно: Mark Twain Birthplace Memorial Shrine, то есть буквально мавзолей (ковчег, святыня на выбор) места рождения Марка Твена. На слух диковато, и я легко могу представить себе, как посмеялся бы над авторами идеи сам обитатель «мавзолея», он же, допустим, редактор сельскохозяйственной газеты, уверявший своих читателей, что брюква растет на дереве. «Гороховые вы стручки, сказал бы он, капустные кочерыжки, тыквины дети, неужели ничего остроумнее придумать не могли? И вообще, слухи о моей смерти сильно преувеличены». И тут бы он был совершенно прав, хотя, как ни странно, надпись, в общем, соответствует действительности: хижина помещена в некий стеклянный каркас, через который хорошо видно внутреннее убранство кровати и детские кроватки, стулья и стульчики, кухонная утварь и т. д. Напротив «мавзолея» небольшое музейное помещение, среди экспонатов которого имеется корректура первого издания «Приключений Тома Сойера», оригинал договора на публикацию этого романа с лондонским издательским домом Chatto and Windus; кое-что еще, например очередная пишущая машинка размеров, надо сказать, в отличие от ганнибальской, довольно устрашающих едва ли не вообще первая модель этого революционного по тем временам порождения цивилизации.
Музей опять-таки он и есть музей, тем более что самая интересная его часть оградила себя стеклянной защитой жалко, хотя и понятно почему. И все-таки органика сохраняется, все-таки живое дыхание чувствуется как и в Ганнибале, как и на свободном просторе озера Марка Твена, что плещется внизу, расстилаясь на несколько квадратных миль в разные стороны, как и на заросших тропинках прилегающего заповедного парка. Флорида же мертва.
И вот тут промелькнувшая еще в Ганнибале догадка сделалась уверенностью. Есть Марк Твен есть жизнь, нет его наступает молчание.
И вообще, это он все вокруг придумал и одушевил, это он всему придал форму и, как скульптор, отсек лишнее, так что, может, никаких мемориалов и не требуется.
Медвежий ручей течет на окраине Ганнибала не потому, что в нем (допустим) плескались когда-то Сэм Клеменс и Лора Хокинс, а потому что, вернувшись сюда много лет спустя, его помянул Марк Твен в «Жизни на Миссисипи», наполовину мемуарной, наполовину вымышленной книге, которую он сочинял примерно в те же годы, что и «Приключения Гекльберри Финна».
И на холм Кардифф я поднимаюсь не потому, что там стоит мемориальный маяк, а потому, что туда лазил Том Сойер, хотя нынешней лестницы тогда не было. Да и никому она не нужна.
И недаром ушел под воду реально существовавший совсем неподалеку от Ганнибала остров Глэскок на нем бывал только Сэм Клеменс, а вот Том Сойер, а за ним Гек Финн обследовали как раз не существующий, но куда более реальный и эрозии не подверженный остров Джэксона.
Да и саму Реку Впрочем, об этом немного дальше, а пока мы возвращаемся из Флориды в Ганнибал, где выясняется, что Марк Твен придумал не только сам городок и его холмы, и острова, и все остальное, но и людей, которые здесь жили и живут.

Родные названия: граница городка Москва в том самом штате Арканзас, где происходит значительная часть действия «Гекльберри Финна»
«Рай» по-твеновски
Еще по дороге в Ганнибал из Сент-Луиса, куда мы прилетели, бросился в глаза указатель «Московские мельницы». Чуть позже нам и в самом деле попадется захолустный, впрочем, чистенький городок, устроившийся где-то вдалеке от проезжих дорог, уже никакие не «мельницы», а просто Москва. Вообще на Юге, как, впрочем, и в любой иной части Америки, полно мест со звучными именами: Рим, Афины, Каир, Фивы, Троя, Карфаген. Это можно понять: люди ведь ехали сюда не просто поля возделывать, они Град на Холме, Новый Иерусалим возвести собрались, и для начала следовало укрепить высокий замысел именами символами славы и мощи. Или запечатлеть вселенский порыв и вовсе недвусмысленно называя селения и улочки Городом будущего или проездом Земли обетованной.
Однако «московское» название навело на другой вопрос об имени того городка, где затевал всяческие игры Том Сойер и откуда потом сбежали Гек с Джимом. Его я и задал Генри Свитсу куратору, то есть главному хранителю музейного комплекса Марка Твена в Ганнибале, опекавшему нас на протяжении всего пребывания в городе, как вдова Дуглас Гека Финна, только, в отличие от нее, совершенно неназойливо.
Почему именно Санкт-Петербург? спрашиваю.
Россия здесь ни при чем, разочаровывает меня Генри. Как известно, святой Петр охраняет врата, ведущие в рай. А по Марку Твену, рай это детство. Потому и живут мальчишки в Санкт-Петербурге.
Версия, конечно, не новая, и можно бы развить ее в том смысле, что, в отличие от «Тома Сойера» «Гекльберри Финн» это бегство, а то и изгнание из рая. Но никакого желания погружаться в литературоведческие материи у меня нет, так что я продолжаю:
А что, нынешние Геки-Томы уютно себя в этом раю чувствуют? Попросту говоря, родные им эти ребята или просто чтение, школьная программа?
Родные, говорит, конечно, родные. Вообще, в романах Твена мало деталей и много чувства, а чувства меняются медленно. У Мелвилла вон киты и китобойный промысел кому это в наши времена интересно?
Ну да, конечно, таких сорванцов, как Гек или Том, сейчас уж не найдешь, но жажда приключений в мальчишках сохранилась, куда-то их тянет, особенно если растут в неблагополучных семьях. Ну, думаю, тут он хватил. Да неужели же «Моби Дик» это просто киты? Боюсь, если Мелвилла в Америке не читают, то свидетельствует это отнюдь не о том, что прославленный китобой «Пекод» давно сделался достоянием музея. Да и с популярностью самого Марка Твена все не так просто. По дороге у меня будет не один случай подвергнуть испытанию оптимизм славного и бескорыстного хранителя не столько музея, сколько живого наследия художника, и тогда выяснится, что подростки, весьма напоминающие порой и видом, и нравом своим Гека Финна (и уж точно непохожие на Примерного Мальчика Сида), чаще всего только слышали о таких персонажах.
В пяти минутах ходьбы от музея пристань, у которой покачивается экскурсионный пароход «Марк Твен». По нему нас водит капитан Стив Терри еще один явный персонаж, ну, скажем, «Старых времен на Миссисипи» или, далее, «Жизни на Миссисипи». Он, правда, совершенно не похож на Хорэса Биксби учителя Сэма Клеменса. Вместо густой шкиперской бороды у него редкая бородка, трубки не курит, к соленой шутке не склонен и вообще говорит на удивление правильно, даже без акцента, свойственного уроженцам американского Юга, но, что более всего обескураживает, он бизнесмен, владелец туристической компании, ресторана, типографии, кажется, еще и бензоколонки. Выходит, речные прогулки еще один источник заработка?
Ну, не без этого, конечно. Тем не менее и типографский цех, и все остальное лишь инструмент, лишь материальная опора любимого дела, каковым является дело лоцманское. Именно лоцманское, а не прогулочно-туристическое, хотя мастерства великого для трехчасовой экскурсии не требуется. Пусть даже никакого риска в нынешнем судоходстве по Миссисипи давно уж нет. Реального нет, но есть воображаемый, и это самое лучшее переживание. Как самые лучшие из пятидесяти без малого прожитых лет те два года, когда, как и Марк Твен некогда, ходил Стив «щенком» учеником лоцмана. А лучшая, настольная книга, понятно, «Жизнь на Миссисипи». И не потому, что там все правильно написано насчет азов лоцманской профессии, а потому, что все правильно о самом ее духе, духе свободы. Подневольны все, не одни лишь черные, но и политики, журналисты, писатели. Эти последние «рабы публики». И только лоцман на Миссисипи рабства не знал.
Получив диплом, Марк Твен мечтал, что проведет на Реке остаток дней своих и умрет за штурвалом. Не вышло. Но он, Стив Терри, наследник и порождение своего великого земляка, быть может, осуществит то несбывшееся предназначение. Хотя на компромиссы, увы, идти приходится.

К широким берегам, в поисках свободы
Славно было бы сесть на «Марка Твена» и, затерявшись среди иных пассажиров, двинуться по течению на юг. Но тогда бы пришлось следовать туристическому маршруту, соответствовать раз и навсегда установленным расписаниям. Уж лучше, собственной свободы ради, и впредь довольствоваться автомобилем, стараясь лишь не слишком отдаляться от Реки.
Кто-то сказал, что, не будь ее, этой Mighty Mississippi могучей Миссисипи, не было бы и писателя по имени Марк Твен. Верно. Чего только и кого не видела она на своем долгом веку. Ее белокожих первооткрывателей (то есть, это им казалось, что они пионеры) аборигены встречали сперва грохотом боевых барабанов, а потом рукопожатиями. Так, трубку мира еще в конце XVII века раскурили вождь индейцев племени чикесо и французский исследователь Рене Ла Саль. Произошло это на месте будущего городка Наполеон в Арканзасе, куда нам так и не удалось по причинам, о которых будет сказано в свое время, добраться. В отличие, допустим, от Рене Шатобриана, совершившего путешествие по Миссисипи в 20-годы XIX века. Впрочем, может быть, он это только придумал добраться от Великих озер до Натчеза, то есть пересечь, по сути, весь континент за два месяца (а автор «Американского путешествия» уверяет, что именно столько времени ему понадобилось на это предприятие), да еще на каноэ, вряд ли возможно. На Миссисипи совершал свои подвиги полулегендарный плотогон Майк Финн. Здесь разыгрывались сражения Гражданской войны, решавшие судьбы страны. Случались наводнения, решавшие судьбы людей. Так быль смыкается с небылью, и недаром благоговейный ужас перед величием Реки воплотился и в негритянских песнопениях, где она величается Ol’Man River, и в индейских сказаниях, где зовут ее «Отцом вод».
Да, это правда не будь Миссисипи, не было бы и Марка Твена. Но правда и то, что не было бы и Реки, не будь Марка Твена. Они оба одновременно заимодавцы и должники. Миссисипи создала Марка Твена. Марк Твен придумал Миссисипи. Ясно, не ту водную артерию, что, начинаясь в северной части штата Миннесота и впадая в Мексиканский залив, перерезала по вертикали фактически весь Североамериканский континент. Эту равнодушно сотворила природа. А Марк Твен гениально угадал в Реке символ, создал мифологию свободы.
Почему, скажем, герои романа, взыскуя воли, бегут не на Север, где рабовладение отменено, а на Юг, где оно как раз процветает, действие, напоминаю, происходит за 1520 лет до начала Гражданской войны? Ну, легко, конечно, привести исторические аргументы. По действовавшим тогда законам, беглого раба, оказавшегося на свободных территориях, можно было вернуть хозяину, так что даже целый промысел развился, едва ли не профессия образовалась «охотники за черными» получали немалые деньги.
Естественно, простодушную свою добычу они ожидали прежде всего на северных маршрутах, так что по прошествии времени беглецы проложили так называемую «Подземную железную дорогу» (на самом деле вовсе не подземную и не железную), которая вела к цели кружным путем, то есть через Юг. Главным «кондуктором» этой дороги считался не кто иной, как прославленный, в песенный фольклор вошедший мученик за освобождение негров Джон Браун.
Именно этим путем на Север через Юг и движутся наши герои. Но, повторяя сейчас их путь, я совершенно не думаю о практических резонах того выбора. Потому что, помоему, и сам Марк Твен о том не думал. Не только Гек, намеревающийся удрать «на индейские территории», но, может быть, и Джим, а уж их создатель-то наверняка грезит о метафизической свободе, образом которой является Река. Устремляясь на юг, она становится все полноводнее, все просторнее. А шире берега больше свободы
 |
Ну, а мы тут задержимся.
По дороге из Ганнибала-Санкт-Петербурга случилось немного заплутать, а заплутав, притормозить, чтобы свериться с картой у первого подходящего дома, тем более что Виктору он показался достойным фотосъемки. Не тут-то было. На крыльце появился средних лет мужчина и в полном соответствии со своим видом хмуро осведомился, что нам здесь надо. К светской беседе такое начало явно не располагало, и я спросил лишь, как проехать в Каир и нельзя ли сфотографировать усадьбу мы, мол, ангажированы известным российским журналом повторить путь героев Марка Твена. Никакого впечатления эта «визитка» не произвела. Дороги он якобы не знал, что же касается съемки, то нет, такого разрешения дано быть не может, ибо дом принадлежит не ему, а приятелю, он всего лишь гость. Надо признаться, что хоть те райские годы, когда мне легко было почувствовать себя Геком Финном, давно уж потерялись в неразличимой дали времени, по ходу этого разговора испытывал я, кажется, примерно те же переживания, что этот юный сорванец, оказавшийся перед грозным взглядом полковника Грэнджерфорда. А тот, известное дело, «уж если, бывало, выпрямится, как майский шест, и начинает метать молнии из-под густых бровей, то сначала хотелось поскорее залезть на дерево, а потом уж узнавать, в чем дело».
Получив таким образом четкий отлуп, мы собрались уж было отъехать, как с противоположной стороны нас окликнули: на дороге стоял уже не средних лет, но вполне преклонного возраста господин и знаком предлагал разворачивайтесь, мол, подъезжайте. Что мы с охотой и сделали.
Перед нами был все тот же полковник Грэнджерфорд, только уже в ином облике «доброты был такой, что и сказать нельзя, всякий сразу это видел и чувствовал к нему доверие». Или симпатичный судья Тэтчер, положивший найденные Геком и Томом в пещере деньги в банк, что приносило им каждый Божий день по доллару прибыли. А то и сам Гек Финн в старости, если, конечно, тот до старости дожил. Выяснилось, что в молодые, да и в зрелые годы случайный наш встречный работал на ферме, затем занялся ремонтом электрооборудования, а теперь вот вышел на пенсию и поселился здесь, невдалеке от Миссисипи, откуда доносится ветерок. Нельзя сказать, будто он так уж возбудился, услышав, что случайные и недолгие его гости фотохудожник и литератор из далекой России и что поманили их сюда Марк Твен и Гек Финн. Вообще я давно уже заметил, что, в отличие от жителей больших городов Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса с их демонстративной расположенностью к незнакомцам, американские провинциалы, как правило, сохраняют внутреннее достоинство и естественность в поведении. Показать дорогу извольте, сказать о себе, если просят, несколько слов почему бы и нет, но изображать невероятную радость от встречи с путешественниками с чего бы это? Да и вообще мне показалось, что он с некоторым недоумением отнесся к нашему предприятию.
Так или иначе, thank you ever so much, sir, вы нас выручили, на путь верный наставили. Благодарствуйте, и пусть вам сопутствует удача.
Дорожный знак сообщает: Каир.
Марк Твен описывает его в «Жизни на Миссисипи» очень бегло, замечая лишь, что город весьма оживленный. Гек Финн, рассказчик собственных приключений, не описывает вовсе, оно и понятно: что разглядишь в тумане?
Кстати, и нам, вернее, Виктору, белесая пелена, неприветливо встретившая нас наутро после приезда, поначалу мешала заниматься своим делом. Правда, довольно быстро туман рассеялся и что же? Глазу не на чем, в общем, остановиться. Городок стреловидно пересекает магистраль, расходящуюся у его границы надвое, чтобы сделаться, соответственно, полотном мостов через обе реки. Повсюду чистенькие однообразные домики, изредка перемежающиеся мемориалами вроде Таможенного музея, где сохранился письменный стол генерала Гранта, командовавшего в этих (как, впрочем, и иных) местах войсками северян.
Словом, к тому, что сказал о Каире Марк Твен и чего не сказал Гек Финн, добавить как будто нечего. И тогда на месте рассеявшегося реального тумана сгущается туман виртуальный.
Роберт Ли вместо Тома Сойера
Раскрываем карту, на которой прослежено воображаемое путешествие на плоту в его соответствии с подлинными географическими пунктами (она приложена к одному весьма почтенному, с аппаратом и всем, что полагается, научному изданию), и движемся этим маршрутом.
Для начала Фивы. Здесь, немного не доезжая до Каира, путники могли столкнуться с разбитым пароходом или причалить к островку, чтобы переждать туман. На древнеегипетскую столицу этот крохотный, в две-три улицы, поселок, притулившийся на верхушке холма, нависающего над рекой, явно непохож. Островок вроде того, что упоминает Гек, верно, имеется, даже несколько островков, и вверх, и вниз по течению. Имеется также старое, 1848 года, здание суда, где якобы выступал на каком-то процессе адвокат по имени Авраам Линкольн . Уточняя к нему дорогу, притормаживаем у домика, на веранде которого сидит на нежарком мартовском солнце супружеская пара. Мужу, как выяснилось, за девяносто, жена помоложе каких-то семьдесят пять. Честно говоря, показались мне Полин и Лой Шламахеры скорее гоголевскими, нежели марктвеновскими персонажами этакие старосветские помещики. Беглый разговор только укрепил первое впечатление.

Фивы, штат Иллинойс. На высоком берегу Миссисипи стоит здание суда, в котором, по слухам, выступал малоизвестный современник Твена Авраам Линкольн
В ответ на вопрос, знает ли великого своего соотечественника нынешняя молодая Америка и каковы шансы отыскать в этой глухомани отдаленных наследников Гека и Тома, которые, может, тоже любят приключения, обувной мастер на пенсии лишь презрительно фыркнул:
Наркотики, вот что они любят!
Увы, в скором времени пришлось убедиться, что основания для этого старческого а какого же еще? брюзжания есть. То есть насчет наркотиков не скажу, а вот в остальном словно бы и правда. Рядом со зданием суда вилась стайка подростков, и двое-трое подтвердили, что да, конечно, «Приключения Гекльберри Финна» читали, но лишь потому, что этого требует школьная программа. А кое-кто и не читал времени, мол, нет.
Чем же это вы так заняты?
Ну, как чем, друг с другом общаемся.
По Интернету гуляем.
Ладно, думаю, с детьми и стариками не повезло, испытаем среднее поколение, благо вот оно, в лице двух мужчин, на вид сорока пяти-пятидесяти лет, возятся с катером прямо на берегу реки. Оказалось владелец небольшого рыбного хозяйства в Теннесси с помощником. Все рассказали: и что конкуренция страшная, и что недавно сом попался весом 65 фунтов (ну, это обычные рыбацкие байки), и что икрой торгуют по всему миру (лично мне продукция Пенни Чизхолдера как-то не попадалась). Но тень Марка Твена, возникшая было в начале нашего приречного разговора, так и не соткалась в нечто более осязаемое.
И в Колумбусе, куда привела нас через день-другой та же вымышленная карта, все более или менее повторилось.
Место это историческое не Виксберг, положим, не Шайло, не Геттисберг, но события Гражданской войны разворачивались и здесь. Вообще, историю на всем американском Юге чтут и помнят, причем помнят, как бы сказать, болезненно. И чем южнее, чем ближе к местам роковых сражений, тем острее ощущаются так и неизжитый до конца комплекс поражения и подсознательная жажда реванша. Это может в чем угодно проявляться: в многочисленных памятниках Павшему конфедерату, в висящих над домами флагах Союза одиннадцати отколовшихся штатов, в театрализованных представлениях на открытом воздухе, когда молодые люди в мундирах офицеров армии южан подсаживают в седло юных дам в кринолинах. Кроме того, по местам сражений водят скаутов, трепетно перечисляя имена военачальников: Ли, Андерсон, Stonewall (Каменная Стена) Джэксон.
Как раз одной из таких нет, экскурсия тут явно неподходящее слово, скорее уж приобщение, даже таинство так вот, одного из таких таинств мы оказались свидетелями. Напутствовал подростков молодой человек, перед которым на длинном столе разложены серые и голубые шинели, шляпы-треуголки, ружья и пистолеты, какие шли в дело в годы Гражданской войны. А с возвышения, с самой верхушки нависающего прямо над рекой холма, где почти полтора века назад держали оборону конфедераты, за этой сценой наблюдает мужчина заметно постарше. Он стоит, прислонившись к пушке, которую самолично откопал после четырнадцатилетних исследований где-то неподалеку отсюда. Это реликвия, это воплощенная память о тех славных и трагических временах.
В какой-то момент среди подростков мелькает рыжая голова, которая, кажется мне, хотя возможно, это всего лишь прихоть воображения, отдаленно напоминает Гека Финна.
Увы! О Марке Твене Коннор Симпсон, школьник из городка Падука, штат Кентукки, только слышал краем уха. Иное дело Роберт Ли и Джефферсон Дэвис, это фигуры знакомые.
Но как же так? Ведь скаутские походы это прежде всего игра, приключение. А кто лучше Марка Твена описал приключение и даже, устами Тома Сойера, обосновал его метафизику (хотя таких слов парнишка, разумеется, не знал)?
Очередная остановка Хикмэн, где Марк Твен не раз бывал либо проходил мимо сначала как лоцман, потом как писатель. Задерживался здесь и Гекльберри Финн. Именно там он, удирая с разбитого парохода, оказался на пароме, где поведал сторожу (он же капитан, и первый помощник, и владелец посудины) душераздирающую историю гибели всей своей семьи. Правда, в книге городок называется Бутс-Лендинг, но прообразом его послужил именно Хикмэн. Во всяком случае, так считают составители все той же карты, что нас сюда привела. А мне никто не мешает считать, что паром, перевозящий на тот берег реки, из Кентукки в Миссури, людей и автомобили тот самый, из «Приключений », да и пристань та же. Направляясь к ней, мы остановились перекусить в кафе на набережной, и тут нам сильно повезло: за соседним столиком оказалась пожилая дама, некогда начальница речного порта, а ныне волонтер местного информационного центра. Велда Бэби «До Ярбро» (в кавычках прозвище, трогательно воспроизведенное даже на визитной карточке) провела нас по всему городку, где и впрямь многое ассоциируется с Твеном. И прежде всего даже не легендарный паром, но место, где стояла лавка, перед которой затеяли пальбу представители двух враждующих семей, Грэнджерфордов и Шепердсонов. Положим, сейчас здесь выстроились в ряд блистающие чистотой фронтоны двух-трехэтажных домов, и ничто уж не напоминает о давней родовой распре, но какое это имеет значение?
Конечно, действительность все время пытается опровергнуть литературу. Вода в реке, на берегу которой я сейчас стою, не прозрачная, а мутно-желтая, и противоположный берег не в полутора милях, как представляется Геку, а метрах в пятистах, и никакого величия в медленном течении не усматривается, и не мелькают на поверхности черные точки и такие же черные полосы шаланды и плоты, а медленно и тяжело ползут груженные лесом или углем баржи. Ну и что? Я даже сравнивать ничего не хочу, заранее признав, что у Марка Твена зрение получше моего.
 |
Оставалась последняя треть путешествия, которое предполагалось завершить там же, где Гек с Джимом, то есть на ферме Фелпса. Точного ее местонахождения никто, разумеется, не знает, но, судя по карте путешествия, которой мы по-прежнему руководствуемся, она в Арканзасе, где-то между Наполеоном и Колумбией. Но тут случился конфуз. В «Жизни на Миссисипи» есть один готический, в духе Гофмана или, учитывая юмористическую окраску, скорее, Вашингтона Ирвинга, сюжет, связанный как раз с Наполеоном: один из участников некоей интриги, не поладив с двумя другими заговорщиками, решает сойти здесь на берег. Однако выясняется, что это невозможно: никакого Наполеона больше нет, его смыло наводнением. Честно говоря, этот сюжет я как-то забыл. Но даже если б и помнил, решил, что с тех давних пор городок снова отстроился, ведь он есть на моей карте-путеводительнице. Увы! Картографическая служба штата Арканзас, а равно всей страны, с ней не согласна на официальных картах никакого Наполеона нет. Нет и Колумбии.
Пришлось первоначальный план изменить и двинуться через Мемфис (который Гек с Джимом миновали, не заметив, как и Каир) в городок под названием Магнолия. Это уже другой штат Миссисипи. Что понесло нас туда, ведь наши герои быть здесь явно не могли тоже слишком далеко от Реки? А то, что здесь нас ждал доктор Люциус Мэрион Лэмптон, которого друзья, даже не очень близкие, зовут Люком. А Лэмптоны предки Марка Твена по материнской линии, так что сорокалетний доктор из Магнолии занимает свое почетное место на генеалогическом древе, являясь прапрапра внуком Марка Твена.
Первым делом Люк везет нас на кладбище при старой, первой трети XIX века, методистской церкви Чайна Гроув. Здесь, в нескольких десятках миль от Магнолии, похоронен Уильям Лэмптон кузен матери Марка Твена, то есть его двоюродный дядя. Вскоре после смерти матери и вторичной женитьбы отца он, не выдержав домашнего гнета мачехи, сбежал вниз по Реке, добрался до Нового Орлеана, затем вновь пустился в путь, уже в обратном направлении, и в конце концов осел в одном из городков штата Миссисипи, где занялся строительным делом, обзавелся многочисленной семьей и во благовременье скончался. Его внучатому племяннику было тогда 33 года, дяди он не знал, но в семье блудного родича часто вспоминали, и не исключено, он послужил одним из прототипов Гека Финна. Во всяком случае, поиски свободы вели его в том же направлении.
Побродив по кладбищу, где помимо Уильяма покоятся и другие Лэмптоны целый семейный склеп, заглянув в церковь, в которой, напоминая о былых временах, скамейки для черных на галерее отделены от мест для белых, возвращаемся в Магнолию.
Люк выносит на веранду кресло-качалку, которое принадлежало его пра-пра-пра и чудом сохранилось на ветрах времени, раскладывает на столе книги из библиотеки Марка Твена с его пометками, рядом усаживаются его сыновья-погодки Гарленд и Кроуфорд самые юные из живущих ныне наследников великого насмешника, и затевается у нас разговор, которым мне кажется уместным завершить этот рассказ о поездке по Твенленду. Скажите, Люк, вы себя Твеном ощущаете? Или, если угодно, Клеменсом? Или Лэмптоном, но не только по имени? Словом, членом семьи или клана, породившего явление по имени Марк Твен?
Ну, конечно, быть одним из прямых, по крови, наследников Марка Твена это большая, хоть и случайная честь. Насколько я знаю, это чувство разделяют и другие ныне живущие Клеменсы и Лэмптоны. Только, видите ли, наш родич Марк Твен наверняка поднял бы таких зазнаек, как мы, на смех. Собственно, он это уже и сделал: так и вижу кого-нибудь из наших в роли Герцога или Короля. Твен считал, что семейное древо должно походить на картофельную ботву: лучшая часть под землей. Правда, и у него были свои комплексы. Так, скажем, подобно матери, он гордился кровным родством с графским родом Дарэмов.
«Другие», говорите, «наши»? У вас, что же, нечто вроде ассоциации родственников Марка Твена существует?
Ассоциации, конечно, нет. Да немного нас и осталось. Увы, хотя у Марка Твена было четверо детей, пережила его только одна дочь Клара. В октябре 1909 года она вышла замуж за русского пианиста и дирижера Осипа Габриловича. Бракосочетание состоялось в Стормфилде, дома у Марка Твена, и он на нем был, хотя до рождения единственной своей внучки Нины, которая появилась на свет в августе 1910 года, не дожил. Ее судьба сложилась несчастливо, замуж так и не вышла, осталась бездетной, почти всю жизнь старалась избавиться от пристрастия к наркотикам и алкоголю и умерла в 1966 году.
Да, ассоциации нет, но несколько лет назад иные родичи из Америки и Англии собрались во Флориде на открытие надгробия на могиле деда Марка Твена Бенджамена Лэмптона. Несколько раз в Америку приезжала дочь покойного графа Дарэма Люцинда Лэмбтон («б» поменялось на «п» в ходе ассимиляции семьи на новой, американской, почве. Прим. авт.). Это было нечто вроде паломничества, она проехала от Нью-Йорка до Миссисипи, останавливаясь на кладбищах, где покоится прах наших предков. Иногда получаю письма от людей, с которыми связывает принадлежность к роду. Словом, еще раз клуба нет, но семья есть, стараемся сопротивляться ходу времени.
Считается, что Марк Твен больше, чем кто-либо иной неважно, писатель, философ, политик, воплотил сам дух того, что называется американизмом. Что скажете?
Ну, не знаю, это вам, знатокам, судить. Я же могу лишь заметить, что американизм Марка Твена это не просто картина идиллического детства на берегах Миссисипи. Марк Твен продукт восьми поколений американцев, которые, в свою очередь, сами были порождением границы с тех самых пор, как возникло это понятие. Ему не надо было искать Америку, она была рядом, под боком. На могиле Уильяма Лэмптона, не только двоюродного брата матери, но и товарища ее детских игр, мы только что были. А другой ее кузен, Джеймс, стал прототипом полковника Селлерса из «Позолоченного века».
Но коли так, то откуда же это равнодушие к его книгам?
Да, верно, теперь уж им не зачитываются, как раньше. По-моему, это свидетельствует о каких-то тяжелых провалах в нашей современной культуре. Нынешние американские дети рискуют стать интеллектуальными нищими, если не откроют для себя Марка Твена. И все же, все же даже и во времена компьютеров наши ребята, как и встарь, воображают себя пиратами, они по-прежнему ищут приключения в лесах, плавают по рекам и ручьям и мечтают о том, чтобы удрать от школьной и домашней рутины. На американском Юге полно нынешних Томов Сойеров и Гекльберри Финнов. Да весь мир полон ими!
Мне хотелось бы верить в то, что это правда.
И может быть, это действительно правда, косвенным свидетельством чего служит тот факт, что в академическом (!) издании воспроизведена карта с названиями несуществующих городов.
Николай Анастасьев | Фото Виктора Грицюка
Среди друзей Сэма было немало таких же бесшабашно-веселых искателей приключений, как и он сам. Вилл Боуэн, ровесник будущего писателя, не уступал ему в проказах, даже если они грозили серьезными последствиями. Сэм с Виллом однажды спустили с холма Холлидея огромный камень. Катясь вниз, он разбил вдребезги мастерскую медника и только чудом никого не искалечил. В зрелые годы Твен и Боуэн любили вспоминать, как они играли в Робин Гуда, дрались игрушечными мечами и воровали фрукты в чужих садах.
Близким другом Сэма был и Джон Бриггз. Вспоминал Твен также Норвала Брэйди, которого прозвал Гуллом по имени героя "Путешествий Гулливера". Имеете с Виллом, Джоном и Гуллом он играл в разбойники, наводнял номера местной гостиницы кошками - к крайнему неудовольствию жильцов, - совершал нападения на недругов, удил рыбу, дрался, посещал представления заезжих актеров.
Бриггз, Боуэн и Брэйди были больше по духу Сэмюелу Клеменсу, нежели его собственный младший брат Генри, добрый и послушный.
Это он, Генри, разоблачил хитрость Сэма, который, несмотря на запрещение, отправился купаться, вспорол наглухо зашитый матерью ворот рубашки, но, увы, по рассеянности зашил его снова нитками не того цвета. Это из-за него, Генри, шалун был подвергнут основательной трепке. Сэм не удержался как-то от соблазна бросить из окна третьего этажа огромную корку арбуза прямо на голову брата. А тот запустил в него булыжником.
Был в Ганнибале бедняк из бедняков - Том Бланкеншип. Сэм Клеменс и его товарищи охотно дружили с Томом, хотя родители поглядывали на это косо.
Что и говорить, создавая "Приключения Тома Сойера", Твен опирался на очень многое из того, что видел и перечувствовал в детстве сам. В книге возникают даже имена, с которыми он сжился с ранних лет. Имя главного героя романа, вероятно, взято у Тома Бланкеншипа. Гек Финн заимствовал свою фамилию у одного из "городских пьяниц" Ганнибала - Джима Финна. Пещера Макдоуэлла получила в повести созвучное название пещеры Макдугала. Попутно заметим, что подлинные имя и фамилия маленькой подруги детства Сэмюела Клеменса, названной в повести Бекки Тэтчер, перенесены в роман "Позолоченный век", главную героиню которого зовут Лорой Хокинс.
И все же в повести "Приключения Тома Сойера" нашли отражение лишь отдельные, главным образом более светлые, стороны детства писателя.
Еще в юные годы Сэм Клеменс не мог не ощутить, что на свете есть также немало тоскливого, мрачного.
Вспомним, что в Ганнибале существовало рабство. В годы юности Твена на каждого седьмого жителя городка приходился один невольник. Пусть, как подчеркивают все биографы, рабство не принимало в Ганнибале столь страшные формы, как в более южных штатах, где негры работали на хлопковых плантациях. Но рабство оставалось рабством.
Ганнибальскому негроторговцу Бибу была продана последняя оставшаяся у Клеменсов рабыня - негритянская девушка Дженни. И он отправил ее на южную плантацию. В своих "Деревенских жителях, 1840-43" Твен рассказывает, что много лет спустя кто-то (возможно, он сам) встретил Дженни на пароходе, где она работала горничной, - негритянка плакала и горько жаловалась на свою судьбу".
Родной штат Сэмюела Клеменса соединял в себе особенности американского Запада и американского Юга. Отдаленный от "старых" южных штатов, Миссури все же отразил в своем укладе влияние плантаторских порядков.
В Ганнибале почти все относились к рабству, как к явлению естественному и неизбежному. Невольничество было признано законом; церковь и общепринятая мораль внушали почтение к рабовладельцу. Но то обстоятельство, что обильная плодами земля, на которой родился Сэм, все-таки была землею рабства, не могло не оставить свой след в его душе.
Твен писал в "Автобиографии": "В школьные годы я не знал отвращения к рабству. Я не подозревал, что в нем есть что-нибудь дурное. Никто не нападал на него при мне; местные газеты не высказывались против рабства; с кафедры местной церкви нам проповедовали, что бог его одобряет, что оно священно…" Писатель рассказал о том, как в детстве он рассердился однажды на взятого родителями в услужение мальчика-раба, негритенка Сэнди. Этот Сэнди надоедал ему своим пением. И мать, тоже считавшая рабовладельчество чем-то естественным, но чуткая душой, сказала: "Если он поет, бедняжка, то это значит, что он забылся… Он никогда больше не увидит свою мать; если он в состоянии петь, я должна не останавливать его, а радоваться".
Неподалеку от ганнибальской пристани часто лежали негры в ожидании парохода, который должен был повезти их "вниз по реке", на хлопковые плантации Юга. У них были, вспоминал Твен в своей "Автобиографии", "чрезвычайно печальные лица". В десятилетнем возрасте он был свидетелем того, как белый надсмотрщик за какую-то пустячную провинность ударил раба куском железа по голове. Он вскоре умер…
С неграми связаны были трагические и постыдные воспоминания, о которых даже в записях Твена последних лет его жизни, где приподнята завеса над многими безрадостными фактами прошлого, говорится очень мало. Так, писатель мимоходом упоминает негритянского мальчика, который принял на себя вину за какое-то совершенное Джоном Бриггзом "позорное" деяние и в результате был продан "вниз по реке".
Однажды Сэм видел, как шестеро мужчин привели беглого негра. Жутко было слышать стоны избиваемого до смерти человека.
Даже детям нетрудно было понять, что в жизни негра есть много мучительного. В любую минуту его могли ударить, искалечить. И негр-мулат, будь он хоть совсем белым по цвету кожи, полностью принадлежал своему хозяину. Тот мог делать с ним, что хотел.
Загробное царство "доброго черного бога" нередко представлялось неграм царством отдохновения и счастья.
Тяготы повседневной жизни рабов, их страх перед будущим, неуверенность в том, что принесет завтрашний день, - все это помогало плодить суеверия. Впрочем, среди белых тоже было распространено великое множество предрассудков и нелепейших верований.
Детям Клеменсов и Куорлзов, да и всем товарищам Сэма мир казался наполненным привидениями, таинственными звуками, колдовством, смертельными опасностями. Крик совы, вой собаки - все имело свой страшный смысл. Ночью, верили дети, появляются таинственные существа без рук, без ног, без головы. В темноте всегда можно было ожидать, что кто-то схватит тебя за горло - может быть, это кровожадный "вампир". Глаза зверей, казалось мальчуганам, горят ночью особенным, неестественным светом. Души покойников бродят по миру и иногда вселяются в других людей. Колдуны могут лишить человека сна и даже жизни. Если ночью мышь грызет вашу одежду - значит вы обречены на смерть. Для того чтобы защитить себя от всех этих ужасов, нужно пользоваться талисманами, нашептываниями, особыми знаками. Существовала целая "наука" для борьбы со страхом неизвестности, с колдунами, вампирами, привидениями. Дети не сомневались в магических свойствах заячьих лапок, соли, перца, кладбищенской земли, костей мертвецов.
Что удивительного в том, что Сэм и его друзья верили, будто седая негритянка, жившая на ферме Куорлза, достигла почтенного возраста в тысячу лет и беседовала с самим Моисеем, а круглая плешь на ее голове была вызвана испугом при потоплении египетского фараона. Старуха, по всеобщему убеждению, умела "изгонять бесов".
Жизнь была не сладка, конечно, не только для негров, но и для большинства белых, особенно для тех, кого презрительно называли "белой дрянью". В маленьком Ганнибале не было крупных богачей, там отсутствовали те чудовищные контрасты между нищетой и роскошью для немногих, которые мучили Твена в конце его жизни. Но "демократия", коей гордились многие обитатели западных штатов, была буржуазной демократией, и с каждым годом социальное неравенство не уменьшалось, а возрастало. Когда некий врач представил властям Ганнибала счет за лечение одной бедной семьи, "отцы города" решительно отказались его оплатить. Нищая семья, в которой на всех взрослых и детей имелось лишь одно одеяло, была описана в начале 50-х годов в газетке, которую редактировал брат Твена - Орион Клеменс. Нищенствовали и Бланкеншипы. В заметках Твена, которые не вошли в собрание его сочинений, есть такие строки "Бланкеншипы. Родители - нищие, пьяницы. Девушек обвиняют в проституции - не доказано. Том - добрый молодой язычник. Бенс - рыбак. Дети не посещали ни школу, ни церковь". Проживали Бланкеншипы рядом с Клеменсами, в доме, похожем на заброшенный амбар.
В Ганнибале любили рассказывать разные истории о речных пиратах, хозяйничавших в тех местах: например, о Морреле. Их время прошло. Но такие дельцы, как Стаут и Биб, обирали людей не менее энергично, чем Моррел. Порою они тоже лишали жизни своих жертв, не прибегая, однако, к ножу и пистолету. Был случай, когда местный богач воспользовался и пистолетом. Он застрелил неугодного ему человека, и это не повлекло за собой никакого наказания. Обстоятельства гибели "дяди Сэма"- старика Смарра, запомнились Твену на всю жизнь. Смарр, как показал один свидетель во время допроса (его вел судья Клеменс), "был не менее честным человеком, чем любой другой житель штата". Ни для кого он не представлял опасности, но открыто выражал свое отрицательное мнение о местных богачах сомнительной репутации. Он обвинял в мошенничестве Айру Стаута и другого состоятельного дельца - Уильяма Оусли, который, как иногда заявлял Смарр под влиянием винных паров, обобрал двух его друзей.
Решив отомстить, Оусли вооружился пистолетом и, встретив Смарра на улице, дважды выстрелил в него с четырех шагов. Твен рассказывает, что на грудь умирающего положили старинную библию, которая, не давая ему дышать, увеличила его мучения и ускорила агонию. Сэму было тогда девять лет. Как и все обитатели Ганнибала, он долго жил воспоминаниями об этом убийстве. Иногда по ночам ему казалось, что он задыхается под давящей тяжестью огромной книги.