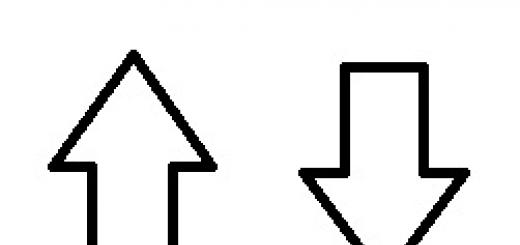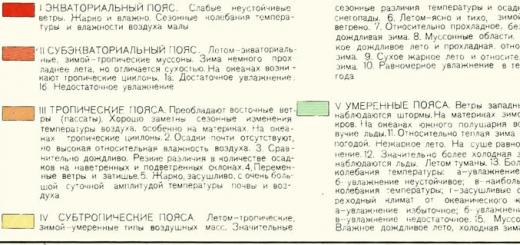- Илья, вы позиционируете себя как независимый издатель. Что это значит?
В то время, когда у меня еще не было собственной издательской марки, я готовил книгу к изданию от начала до конца, а издавал ее на основе партнерских взаимоотношений с каким-нибудь издательством. И для меня было очень важно, чтобы это было известное издательство. Книги неизвестного издательства (и неизвестного издателя) покупаются плохо. Я убедился в этом на собственном опыте. Долгое время я работал в издательстве «Теревинф» - как сотрудник. И как независимый издатель стал издавать книги вместе с «Теревинфом». Но это издательство специализировалось на издании литературы по лечебной педагогике. Оно не занимает серьезных позиций на рынке детской литературы. Когда те же книги, которые некоторое время назад я выпускал под эгидой «Теревинфа», вышли в издательстве «Белая ворона», спрос на них оказался в разы больше. И дело не только в покупателях, но и в товароведах. Если книга выходит в неизвестном издательстве, заявка на нее включает 40 экземпляров. А книги известного издательства заказывают сразу же в количестве 400 штук.
Чем ваши предложения оказались интересными для такого издательства как «Самокат», например? Ваша издательская программа отличалась чем-то таким, что издательство само не могло реализовать? Или это был какой-то неожиданный и перспективный проект?
Я предлагаю не просто издать какую-то отдельную книгу. И даже не серию книг. Я предлагаю вместе с книгой и идеи по ее позиционированию и продвижению. И слово «проект» здесь самое правильное. Я предлагаю издательству уже готовый проект - макет книги с иллюстрациями и комментариями. Работа по приобретению авторских прав уже тоже проделана.
- Вы сами покупаете права на книгу? Правообладатели соглашаются передать права частному лицу?
В той области, где я работаю - да. Я, по большей части, имею дело с книгами забытых авторов, мало издававшихся или имеющих неизданные произведения. Пожилой автор или его наследник обычно счастлив, когда у него возникает возможность увидеть книгу изданной или переизданной. Единственная сложность заключается в том, что они не всегда соглашаются передать потенциальному издателю эксклюзивные права. Но продвижению книги это чаще всего не мешает. Я считаю, что моя работа отмечена особыми издательскими качествами.
- Так в чем же главная идея вашего проекта?
Задним числом проект выглядит гораздо более стройным, чем представлялось вначале. Когда я решил заняться издательской деятельностью, то начал просто с переиздания своих любимых детских книг. Я родился в 1967 году. То есть книги, которые я задумал переиздать, относились к концу пятидесятых - семидесятым годам. Тогда у меня не было иных предпочтений, кроме ностальгических - например, издавать именно русскую литературу. Первой моей книгой стала переведённая в 1960-х с чешского «Собачья жизнь» Людвика Ашкенази. В 2011 году она вышла в издательстве «Теревинф» с моими комментариями, статьей об авторе книги и о моих тогдашних издательских претензиях. То, что я сделал, понравилось Ирине Балахоновой, главному редактору издательства «Самокат». И спустя какое-то время Ирина сказала мне, что «Самокат» хотел бы издать книги двух питерских писателей ‒ Валерия Попова и Сергея Вольфа. Не возьмусь ли я за это? Может, их нужно как-то по-особенному оформить. Но никакой особой роли при подготовке этих книг к печати редактору не отводилось, и мне это было не очень интересно. Поэтому я сказал, что готов взяться за работу - но построю ее по-другому. Я достал все, что написал Вольф, и все, что написал Попов, и все это прочел. Книги Валерия Попова я в юности читал. А о Сергее Вольфе раньше не слышал (разве что в дневниках Сергея Довлатова встречал эту фамилию). Я составил сборники, пригласил иллюстраторов, которые, как мне казалось, могут справиться с задачей, - и книги вышли. Они оказались довольно успешными на книжном рынке. Я стал думать, в каком ряду они могли бы стоять. Что это за писательский круг? И тогда мне пришло в голову, что проект должен быть связан с литературой «оттепели». Потому что это нечто особенное, отмеченное особыми достижениями русской литературы в целом. А можно еще и локализовать проект - взять книги только ленинградских авторов того времени. Но, конечно, в начале своей издательской деятельности я не мог бы сказать, что задумал проект по переизданию «оттепельной» литературы. Это теперь концепция выглядит стройно.
Подождите, но книги Вольфа и Попова - это же 70-е годы, нет? А «оттепельная литература», как я понимаю, это литература середины 50-х‒60-х годов?
Вы считаете, что книги 70-х годов уже нельзя считать «оттепельной» литературой?
Но ведь «оттепель», мне кажется, имеет исторически определенные рамки? Она заканчивается со смещением Хрущева?
Я говорю об «оттепели» не как о политическом явлении. Я имею в виду некий род литературы, которая возникла в этот период и продолжала еще какое-то время существовать. Мне кажется, можно говорить о некоторых общих чертах, которые были характерны для этой литературы, которую я характеризую как «оттепельную». Писатели этого периода - люди, родившиеся в конце 30-х ‒ начале 40-х годов…
- Пережившие войну в детстве.
И не получившие сталинистского воспитания. Это не «дети ХХ съезда», им ничего не пришлось в себе ломать - ни политически, ни эстетически. Молодые питерские ребята из интеллигентских семей, затронутых репрессиями или как-то иначе пострадавших в эпоху террора. Люди, которые вошли в литературу на идеологическом и эстетическом отрицании прежних ценностей. Если они на что-то ориентировались в своем творчестве, то скорее на Хемингуэя и Ремарка, а не на Льва Кассиля, к примеру. Все они начинали как взрослые писатели. Но их не печатали, и поэтому они оказались выдавленными в детскую литературу. Только там они могли зарабатывать на жизнь литературным трудом. Тут еще сказалась и специфика их образования. Все они были «малообразованными».
Вы имеете в виду, что они не знали иностранных языков? Что у них не было гимназического или университетского задела, как у писателей начала века?
В том числе. Пастернак и Ахматова могли зарабатывать на жизнь литературными переводами. А эти - не могли. Валерий Попов, например, окончил электротехнический институт. Андрей Битов так и говорил про себя: а что нам было делать? Мы же были дикарями. А хотели существовать в гуманитарной области. Вот и пришлось «пойти» в детскую литературу. Но они пришли в детскую литературу свободными людьми. Они не подлаживались и не подстраивались. Как считали нужным, так и писали. Кроме того, их собственные произведения оказались внутри очень качественного контекста: в этот момент стали переводить современную иностранную литературу, что раньше было совершенно невозможно, появились произведения Сэлинджера, Бел Кауфман. Вдруг совершенно иначе заговорили писатели старшего поколения. Появилась «Дорога уходит вдаль» Александры Бруштейн, новая педагогическая проза Фриды Вигдоровой. Возникла педагогическая дискуссия… Все это вместе и породило такой феномен как советская «оттепельная» литература…
Но этим мои интересы не исчерпываются. «Республика ШКИД» или «Кондуит. Швамбрания» - это книги другого периода, которые я переиздаю. Хотя теперь словом «переиздание» никого не удивишь…
Это правда. Сегодня переиздают все и всё. Но ваши переиздания, вы считаете, существенно отличаются от того, что делают другие издательства?
Ну, надеюсь, они отличаются уровнем издательской культуры. За десять лет я чему-то же научился? Например, тому, что, берясь за переиздание, надо найти самое первое издание, а еще лучше - авторскую рукопись в архивах. Тогда можно многое понять. Можно обнаружить цензурные купюры, которые искажают первоначальный замысел автора. Можно понять что-то про авторские искания, про его профессиональное развитие. А можно найти вещи, которые вообще существовали до настоящего момента только в рукописи. Кроме того, в переизданиях, которые я готовлю, особую роль играет редактор, его комментарии. В мою задачу входит не просто познакомить читателя с первым изданием, казалось бы, известного произведения Льва Кассиля, а с помощью комментариев, с помощью исторической статьи рассказать о времени, которое описывается в книге, о людях того времени. В книжных магазинах можно найти самые разные издания «Республики ШКИД» в разных ценовых категориях. Но мою книгу, надеюсь, читатель купит ради комментариев и затекстовой статьи. Тут это чуть ли не самое важное.

- То есть это в некотором роде особый жанр - «комментированная книга»?
Скажем так: это перенос традиции научного издания литературных памятников на литературу, созданную сравнительно недавно, но тоже принадлежащей другому времени. Комментарии, которыми я снабжаю свои книги, совсем не академические. Но ни один литературовед при чтении их не должен поморщиться - во всяком случае, такую я ставлю себе задачу.
- А как отбираются книги для комментированного издания?
Основной критерий - это художественность. Я считаю, что мне следует переиздавать только те тексты, которые что-то меняют в составе русской прозы или поэзии. А это, в первую очередь, произведения, в которых главное не фабула, не персонажи, а то, как там составлены слова. Для меня «как» важнее, чем «что».
‒ Ваши книги выходят в издательстве, специализирующемся на детской и подростковой литературе, поэтому возникает вопрос, кому они адресованы. К примеру, у меня было очень сложное чувство, когда я читала «Девочку перед дверью» Марьяны Козыревой. Мне кажется, ни один современный подросток, если он не «в теме», ничего так и не поймет - несмотря на комментарии. Но ведь если книга выбирается за ее языковые и художественные достоинства, они, вроде бы, должны «работать» сами по себе, без комментариев. Нет ли здесь противоречия?
 - На мой взгляд, нет. Марьяна Козырева написала книгу о репрессиях 30-х годов и о жизни в эвакуации. Это вполне состоятельное, с художественной точки зрения, произведение. И оно дает возможность эту тему поднять и сопроводить текст историческими комментариями. Но я и не отрицаю, что эта книга ‒ не для подростков. Марьяна Козырева писала для взрослых. И Кассиль писал «Кондуит» для взрослых. Адресат книги изменился уже в процессе публикации книги.
- На мой взгляд, нет. Марьяна Козырева написала книгу о репрессиях 30-х годов и о жизни в эвакуации. Это вполне состоятельное, с художественной точки зрения, произведение. И оно дает возможность эту тему поднять и сопроводить текст историческими комментариями. Но я и не отрицаю, что эта книга ‒ не для подростков. Марьяна Козырева писала для взрослых. И Кассиль писал «Кондуит» для взрослых. Адресат книги изменился уже в процессе публикации книги.
Мне кажется, это было характерно для литературы того времени. У «Золотого ключика», как пишет Мирон Петровский, тоже был подзаголовок «роман для детей и взрослых»…
Я вообще с самого начала делал книжки с нечеткой возрастной адресацией ‒ те книги, которые интересны мне самому. То, что эти книги поступают в продажу как подростковая литература - это издательская стратегия. Подростковые книги раскупаются лучше, чем взрослые. Но что такое «подростковая книга», я не могу точно определить.
Вы хотите сказать, что умные подростки в возрасте 15‒16 лет, читают то же, что и взрослые? Что никакой четкой границы нет?
Да даже и в более раннем возрасте эстетически "прокачанный" подросток читает то же, что и взрослый. Он уже способен ощущать, что главное - это «как», а не «что». Я, по крайней мере, был таким подростком. И, мне кажется, период с 13 до 17 лет - это период наиболее интенсивного чтения. Самые важные для меня книги я прочитал именно в этот период. Конечно, опасно абсолютизировать собственный опыт. Но высокая интенсивность чтения сохраняется у человека только в том случае, если он профессионализируется как гуманитарий. А в подростковом возрасте закладываются основные способы чтения.
То есть вы все-таки имеете в виду подростка, когда готовите книгу к изданию. Иначе зачем вам нужны были бы иллюстрации?
Иллюстрации важны для восприятия текста. И я придаю визуальному образу книги большое значение. Я всегда издавал и продолжаю издавать книги с новыми иллюстрациями. Ищу современных художников, которые, с моей точки зрения, могут справиться с задачей. И они рисуют новые картинки. Хотя доминирующая тенденция в современном книгоиздании иная. Книги, как правило, переиздаются с теми же самыми иллюстрациями, которые помнят бабушки и дедушки нынешних подростков.

Это очень понятно. Это делает книгу узнаваемой. Узнаваемость апеллирует к ностальгическим чувствам людей и обеспечивает хорошие продажи.
Да. Но таким образом утверждается представление, что золотой век отечественной книжной иллюстрации - в прошлом. Золотой век - это Конашевич. Или хотя бы Калиновский. А современные иллюстраторы ужас что такое лепят… И в отзывах на мои книги (например, в отзывах читателей на сайте «Лабиринта») часто повторяется один и тот же «мотив»: мол, текст хороший, а картинки плохие. Но сейчас время новой визуальности. И очень важно, чтобы она работала на новое восприятие текста. Хотя это, конечно, не просто.
- И спорно, конечно… Но - интересно. Было очень интересно с вами беседовать.
Беседу вела Марина Аромштам
____________________________
Интервью с Ильей Бернштейном
галина артеменко
В историю на «Самокате»
В Петербурге в десятый раз вручена Всероссийская литературная премия имени С. Я. Маршака, учрежденная издательством «Детгиз» и Союзом писателей Петербурга.
Победителем в номинации «Лучший автор» стал Михаил Яснов, лучшим художником назван петербургский иллюстратор, дизайнер, член Союза художников России Михаил Бычков, проиллюстрировавший свыше сотни книг. Премией «За лучшую книгу» была отмечена работа Леонида Каминского, собирателя и иллюстратора детского фольклора, и издательство «Детгиз» за «Историю государства Российского в отрывках из школьных сочинений».
Единственным москвичом, получившим высшую награду, оказался издатель Илья Бернштейн, ставший лучшим в номинации «За издательскую самоотверженность». Вручение премии состоялось в Центральной детской городской библиотеке Петербурга в полдень 30 октября, а тем же вечером Илья Бернштейн читал лекцию «Детская литература оттепели: ленинградская школа детской литературы 1960 — 1970-х годов» в петербургском пространстве «Легко-Легко». Сбор от лекции был направлен на благотворительные цели.
Илья Бернштейн представил серию книг «Родная речь», которые выходят в издательстве «Самокат». В нее вошли книги, которые передают атмосферу ленинградской писательской среды 1960 — 1970-х годов, представляют имена, темы, которые возникли в это время. Среди книг серии — произведения Валерия Попова, Бориса Алмазова, Александра Крестинского, Сергея Вольфа.
Серия родилась так: издателю предложили переиздать две книги Сергея Вольфа. Но не в правилах Ильи Бернштейна просто переиздавать книги — он фактически издает их заново, ищет художников-иллюстраторов. Он прочитал Вольфа, потом Попова и решил делать серию: «Все эти писатели вошли в литературу после XX съезда, большинство из них были так или иначе знакомы, дружны, многих из них в своих записных книжках упоминает Сергей Довлатов».
Но главное, что отмечает издатель, — в детской литературе эти писатели не ставили себе «детских задач». Ведь, по сути, детская литература — это яркая фабула, интересный, не отпускающий читателя сюжет, смешные персонажи, обязательная дидактическая составляющая. Но для названных авторов главным стало другое — взаимодействие слов в тексте. Слово стало главным персонажем. Они ни в каком смысле не опускали планку, говоря с читателем-ребенком о самых разных вещах.
Ныне в серии насчитывается восемь книг, среди которых «Посмотрите — я расту» и «Самый красивый конь» Бориса Алмазова, «Все мы не красавцы» Валерия Попова, «Туся» Александра Крестинского, «Мой добрый папа» Виктора Голявкина и «Мы с Костиком» Инги Петкевич, «Глупо как-то получилось» Сергея Вольфа и «Что к чему...» Вадима Фролова. Кстати, знаменитая у нас в свое время повесть Фролова, изданная теперь уже в далеком 1966 году, до сих пор входит в программы обязательного внеклассного чтения в японских школах, в США автора называют «Русским Сэлинджером». А у нас, как сообщил Бернштейн, после переиздания книжку недавно отказывались выкладывать на видное место в одном из престижных книжных магазинов, мотивируя это тем, что «маркировка ее «12+» никак не совпадает со слишком взрослым содержанием». Повесть — история взросления
13-летнего подростка, в семье которого происходит драматичная коллизия: мать, влюбившись в другого мужчину, уходит из дома, оставив с мужем сына и трехлетнюю дочь. Мальчик пытается понять, что происходит...
Книгу Бориса Алмазова «Посмотрите — я расту» маркировали «6+». Для тех, кто не читал ее в детстве, напомню — действие происходит в послевоенном пионерлагере под Ленинградом, где отдыхают дети, так или иначе травмированные войной-блокадой, эвакуацией, потерей близких. С территории лагеря выйти нельзя — кругом разминирование, а недалеко пленные немцы восстанавливают мост. Один из мальчишек, все же покинувший территорию, познакомился с пленным и... увидел в нем человека. Но его друзья не понимают этого...
Илья Бернштейн отмечает, что серия «Родная речь» не предполагала изначально комментирования и научного аппарата. Но издатель задался вопросом: каков же был разрыв между тем, что думал автор, и тем, что он смог сказать? Книги были написаны в шестидесятые годы, писатели могли сказать многое, но далеко не все. Работала внешняя и внутренняя цензура. Так в книгу «Туся» Александра Крестинского — повесть о маленьком мальчике, который во второй половине тридцатых годов живет с мамой и папой в большой коммунальной ленинградской квартире, вошел и более поздний, написанный уже в 2004 году в Израиле за год до смерти автора его рассказ «Братья». И это фактически та же история мальчика, только теперь Александр Крестинский прямо говорит и о репрессиях, и об арестах и о том, какую каторгу прошел один его брат и как погиб другой. Этот рассказ сопровождают уже не иллюстрации, а семейные фотографии из архива Крестинских.
В книгу Бориса Алмазова «Самый красивый конь» также включены два более поздних произведения автора — «Тонкая рябина» и «Жировка», где Алмазов рассказывает историю своей семьи. Они тоже сопровождаются семейными фотографиями.
Бернштейн в издательстве «Самокат» делает еще одну книжную серию «Как это было», цель которой — рассказать современным подросткам о Великой Отечественной войне честно, порой максимально жестко. Авторы снова люди тех времен, прошедшие, прожившие войну, — Виктор Драгунский, Булат Окуджава, Вадим Шефнер, Виталий Семин, Мария Рольникайте, Ицхак Мерас. И теперь уже в каждой книге серии художественное произведение дополняется статьей историка, излагающего сегодняшний взгляд на описываемые события.
На вопрос, насколько современным детям и подросткам нужны эти книги, как они читаются и будут читаться, издатель ответил так: «Издание всякого рода, сохраняющее время, аккумулирующее и осмысляющее опыт, важно как дань памяти тем, кто этот опыт заработал, и тем, кому это адресовано ныне. У меня нет никакой специальной миссии, может быть, эти книги помогут разобраться и в том, что происходит сегодня, и сделать свой выбор».
Комментарии
Самое читаемое

Русский музей развернул в Михайловском замке выставку к 150-летию Константина Сомова.

В своей картине режиссер противопоставляет жизненную правду - и ее вечную, несокрушимую экранную имитацию.

Оперетта хороша в любое время года, но летом - особенно.

Настал важный момент для культуры нашей страны: идет война за то, как она будет развиваться дальше.

Вспоминаем двух советских режиссеров.

Участие коллекционеров позволило наглядно показать контрасты художника, которого одинаково занимали темы бури и покоя.
‒ Илья, в своих интервью вы часто рассказываете о своей деятельности «издателя-редактора». Это ваше особое личное положение в издательском мире или этому можно где-то научиться, сделать своей профессией?
Попробую ответить. В истории было несколько цивилизационных трендов. Например, индустриальный. Это эпоха типовой продукции, которая производится массово. Это эпоха конвейера. Соответствующим образом должно вестись конструирование продукта, таким же типовым должен быть способ продвижения товара после выпуска. И такой индустриальный способ - это была очень важная вещь в свое время. Это целый цивилизационный этап. Но он не единственный.
Существует также неиндустриальное производство. Кто-то варит крафтовое пиво, кто-то шьет брюки, кто-то делает мебель. Сегодня это все более и более распространенное занятие, во всяком случае, в мире мегаполисов. И я представитель именно такого мира неиндустриальной деятельности. И так как это дело малоразвитое и новое, то тут приходится выстраивать все с самого начала: от системы подготовки специалистов до системы дистрибуции готовых книг. Наши издания даже продаются не так, как другие книги: они не попадают в привычные потребительские ниши. Товаровед магазина, получив их, оказывается в непростой ситуации. Куда определить такую книгу, он не знает: для детской она слишком взрослая, для взрослой - слишком детская. Значит, это должен быть какой-то другой способ подачи, продажи и продвижения. И примерно так со всеми аспектами этого дела.
Но, безусловно, это не сочетание каких-то уникальных индивидуальных качеств одного человека. Это нормальная деятельность. Просто ей нужно по-другому учиться, по-другому ею заниматься.
‒ Так что же это ‒ назад в Средневековье, к мастерским, работающим на заказ? К системе мастеров и подмастерьев?
Мы действительно это называли в некоторый момент «цеховой» структурой. И я действительно обучаю, у меня есть мастерская. И в ней мы действительно используем для простоты такие термины, как ученик, подмастерье.
Предполагается, что когда-нибудь подмастерье должен стать мастером, защитив перед другими мастерами некоторую свою ма́стерскую амбицию, и получить право, возможность открыть свою мастерскую. И в этом ему помогут другие мастера.
Так должно было бы быть ‒ так, как это и было когда-то: цех, с цеховым знаменем. Я не уверен, есть ли у меня в этом последователи. Но я стараюсь выстраивать это именно в таком виде. И не вижу в этом никакой проблемы.
Проблемы в другом. У нас все заточено со школы так, что (чуть-чуть утрируя) человек либо рисует, либо пишет. И если он рисует, то он обычно пишет с ошибками. А если он пишет, то он не умеет держать в руке карандаш. Это как один из примеров. Хотя сравнительно не так давно совершенно естественным было, чтобы гвардейский офицер легко писал стихи в альбом уездной барышни или рисовал на полях вполне пристойную графику. Всего-то сто ‒ сто пятьдесят лет назад!
‒ В вопросе о вашей профессии есть и экономическая составляющая. Вы в одном из своих интервью говорили, что индустриальная цивилизация создает массу дешевого товара, который доступен людям. А то, что вы делаете, это некий достаточно дорогой, «нишево́й», как сейчас принято говорить, продукт. Верно?
Будь я Генри Фордом, я бы конкурировал со всем миром автопроизводства за миллионы потребителей. Если же я делаю в своей мастерской что-то совершенно нетипичное, не массовое, у меня, естественно, не много потребителей. Хотя и не так уж мало. Я считаю, что любой самый экзотический продукт сегодня можно продать. У меня он все-таки еще достаточно понятный… Но зато у меня нет и конкуренции, и всех ее издержек. Нет опасения, что у меня украдут мой продукт. Точно такую книгу, как я, все равно никто не сделает! У меня вообще, по большому счету, ничего нельзя отнять. У меня даже нельзя отнять бизнес, потому что он весь у меня в голове. Да, допустим, арестуют мои тиражи, в худшем случае. Значит, я сделаю следующие. Но, в любом случае, 90% стоимости товара всегда со мною. И меня нельзя выгнать из моей фирмы. Никто не сможет сделать серию «Руслит-2», например. То есть издать-то он может, но это будет совершенно другой продукт. Это как клеймо мастера. Люди идут к конкретному мастеру, и их совершенно не интересует другая мастерская. Не в этом их интерес.
‒ Они хотят другой модели отношений?
Конечно!
И отношения с учениками в мастерской иные, нежели с работниками в фирме. Я не опасаюсь, что у меня переманят сотрудников на бо́льшую зарплату, или что сотрудник уйдет и заберет с собой какую-нибудь «клиентскую базу». От всех этих язв бизнеса мы, к счастью, тоже избавлены.
‒ С организацией работы все более или менее понятно. А сама идея комментированных изданий ‒ это ваша собственная идея или результат каких то опросов, контактов с читателями?
Вот опять же: индустриальный способ предполагает какие-то специальные технологии и профессии: маркетинг, исследование рынка, проведение опросов, определение целевых групп. Индивидуальное производство изначально предполагает, что ты делаешь, в общем-то, для себя, так, как тебе интересно и нравится; делаешь для таких, как ты. Поэтому многие вопросы, традиционные, обязательные для обычного бизнеса, просто не возникают. Кто ваша целевая аудитория? Не знаю! Я делаю то, что я считаю нужным; то, что мне нравится; то, что я умею, а не то, что покупают. Ну, может быть, не совсем так радикально… Конечно, я думаю о том, кому это может быть надо. Но в значительной степени в таком бизнесе спрос формируется предложением, а не наоборот. То есть люди не знали, что такие книжки бывают. Им и в голову не приходило, что им нужен «Капитан Врунгель» с двухсотстраничным комментарием.
‒ Дальнейшее, кажется, понятно: они такую книгу увидели, посмотрели, сначала удивились, потом им понравилось…
И когда такое предложение возникло, они уже будут его искать, будут искать именно такие издания. Более того, уже оказывается непонятно и странно, что раньше этого не было.
‒ Вы считаете, что комментарии в книге необходимы. Почему? И как вы думаете, могут ли комментарии навредить восприятию текста как художественного?
Я не считаю, что они необходимы. И да, я считаю, что они могут навредить. Поэтому я развожу их ‒ в моих книгах нет постраничных комментариев. Я считаю, что постраничный комментарий, даже, казалось бы, такой невинный, как объяснение непонятного слова, действительно может разрушить художественную ткань повествования.
Я вообще не считаю, что комментарии обязательны. У меня дома с детьми даже была такая договоренность: если мы вместе смотрим фильм ‒ папе пульт не давать. Это означало, что я не имею права в некоторые важные, с моей точки зрения, моменты остановить действие, чтобы объяснить то, что дети (опять же с моей точки зрения) не поняли. Потому что есть у меня ‒ и не у меня одного, к сожалению, ‒ такая дурацкая привычка.
Но вот для тех, кому это интересно, «объяснялово» должно быть: отдельное, по другому оформленное, четко отделенное.
‒ И по вашим комментариям, и по отбору произведений для публикации заметно, что тема войны для вас, с одной стороны, актуальна, а с другой - отношение к ней у вас особое. Например, в одном из интервью вы говорили о том, что в войне вообще нельзя победить. Это не совсем соответствует нынешним государственным трендам. Как, вы считаете, можно ли найти баланс между уважением к предкам и тем, чтобы превращать в культ саму войну?
Я бы сказал, что это вообще вопрос уважения к человеку. Дело не в предках. Ведь что такое великая держава? Если великая держава - это страна, гражданам которой хорошо живется, где усилия государства направлены на то, чтобы у стариков была хорошая пенсия, у всех была хорошая медицина, у молодых было хорошее образование, чтобы не было коррупции, чтобы были хорошие дороги, ‒ то эти вопросы даже не возникают. Эти вопросы, на мой взгляд, - это следствие другого представления о величии, которое абсолютно со мной не корреспондирует. И это обычно производная национальной ущербности. А ощущение ущербности , к сожалению, в нашей стране - источник национальной идеи . Эдакий комплекс ущербности. И поэтому ответ наш всем и всегда один: «Зато мы вас победили. Можем повторить».
‒ К вопросу о литературе и государстве. Скажите, советские подростковые книги сильно цензурировались или они уже писались в определенных рамках?
И то, и другое. И они еще и в дальнейшем цензурировались редакторами, в том числе и после смерти автора. У меня в издании «Денискиных рассказов» есть про это отдельная статья ‒ о том, как цензурировались и редактировались, как сокращались «Денискины рассказы», - хотя, казалось бы, что там цензурировать? И рассмотрено это там на большом количестве примеров.
‒ Одно из ваших изданий - «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля. Вы пишете, что первоначальный авторский вариант очень сильно отличался от нынешнего общеизвестного текста. Почему вместо комментариев нельзя было просто издать именно его?
- «Кондуит и Швамбранию» я выпустил именно в первоначальной версии. Это то, что Лев Кассиль написал и впервые издал. Это две отдельные повести, очень сильно отличающиеся от бытующей поздней авторской объединенной версии. Например, потому, что место действия - земли, где компактно проживали немцы Поволжья. Это город Покровск ‒ будущая столица первой автономии в нашей стране, Автономной республики немцев Поволжья. Так как действие «Кондуита» и «Швамбрании» происходит в годы Первой мировой войны, это время антинемецких настроений, антинемецких погромов в городах. Все это было и в Покровске. Об этом довольно много писал Кассиль, писал с большим сочувствием к своим немецким друзьям и одноклассникам. Была в тексте и немалая еврейская тема. Естественно, в позднюю версию все это не вошло. И тут уже можно говорить о цензуре, о сочетании внутренней и внешней цензур. Такие исторические обстоятельства как раз и требуют комментариев.
‒ Вы очень много издаете относительно старых книг, 1920-х ‒ 1970-х годов. А что вы можете сказать о современной подростковой литературе?
Мне кажется, что она сейчас на подъеме. И я ожидаю, что она вот-вот выйдет на совершенно новый уровень, на какой-то пик, как в 20-х и в 60-х годах. Литература вообще не размазана ровным слоем по времени. Был Золотой век, был Серебряный. Я думаю, что и сейчас расцвет близко, потому что накоплено уже очень много. Много работает авторов, много написано приличных, даже очень приличных книг, вот-вот появятся книги замечательные.
‒ И какие бы вы могли назвать выдающиеся современные подростковые книги? Или хотя бы симпатичные лично вам?
Нет, на это я не готов. Во-первых, я сейчас относительно мало читаю, если честно. Я на самом-то деле не из тех взрослых, которые любят читать детские книжки. Сам для себя я детских книжек не читаю. А во-вторых, так сложилось, что я гораздо лучше знаю людей, пишущих книги, чем их труды.
‒ С чем вы такой подъем сейчас связываете? У него есть какие-то внешние причины или это просто внутренние процессы в самой литературе?
Не знаю, это сложная вещь, так не объяснишь. Я думаю, что здесь все в комплексе. Ведь с чем связан Золотой век Пушкина или Серебряный век русской поэзии? Наверное, есть специальные исследования, но я могу это только констатировать.
Вот этого мне как раз очень хочется. Не хочется, наоборот, только продолжать делать то, что уже хорошо получается. Что-то новое стало интересно, но ты это не делаешь, потому что у тебя хорошо идет предыдущий бизнес. Я так не работаю.
‒ Спасибо вам большое за интервью.
Беседу вел Евгений Жербин
Фото Галины Соловьевой
_________________________________
Евгений Жербин, обладатель диплома «Книжный эксперт XXI века», член детской редакции «Папмамбука», 14 лет, г. Санкт-Петербург
Книги серии «Руслит»
Илья Бернштейн - о взрослых темах детской литературы, эпохе оттепели и книжных вкусах разных поколений
Филологи относительно недавно осознали, что русская детская литература, особенно в пору ее расцвета - эпоху оттепели в СССР, не менее глубоко повествует о своем времени и людях, чем взрослая. Одним из первых эту сокровищницу открыл Илья Бернштейн, независимый издатель. Он стал выпускать детские книги с комментариями на несколько сотен страниц. И они расходятся, становясь популярным чтением у взрослых, которые когда-то выросли на «Денискиных рассказах» или «Незнайке на Луне». Подробнее о своих проектах, личном пути и детской литературе вообще издатель рассказал в интервью «Реальному времени».
«Время было такое: молодости, нахальства, шапкозакидательства и чрезвычайно низких профессиональных требований»
Илья, ваш путь в книжный, издательский мир был непростым и долгим. Расскажите, через что вам пришлось пройти, прежде чем вы стали тем, кого называют «независимый крафтовый издатель»?
Когда мне надо было выбирать будущую профессию, шел 1984 год, и мои представления о возможностях были очень узкими. Предыдущие два поколения моих «предков» шли одной, в общем, дорогой: в компании, которая собиралась в доме моих родителей, все мужчины были кандидатами технических наук и завлабами. У меня не было к этому ни способностей, ни интереса. Но к любой другой специальности для мужчины окружающие относились скептически.
Я пошел по пути наименьшего сопротивления, выучился на инженера-программиста и даже какое-то время работал по специальности. По счастью для меня, вскоре наступили 90-е годы, когда появился выбор - либо уезжать из страны, как сделало абсолютное большинство в моем окружении, либо остаться и жить в новой ситуации, когда открылись все ниши и можно было заниматься чем угодно.
Я с детства любил книги. Именно как объект - мне нравилось в них многое помимо текста и иллюстраций. Я читал выходные данные, запоминал названия гарнитур (шрифтов), меня это волновало. Если книги были с комментариями, я часто читал их прежде текста. Повзрослев, я стал книжным коллекционером. Каждый день, возвращаясь с работы, я совершал пересадку на Кузнецком мосту, где много лет функционировал спекулянтский книжный рынок. В темноте (особенно зимой) прогуливались или стояли молчаливые люди, подходили друг к другу, обменивались конспиративными фразами, отходили в сторону и меняли книги на деньги. Я почти ежедневно проводил там по часу и тратил все деньги, которые зарабатывал «молодым специалистом».
Но книги я покупал не для того, чтобы их читать. Из моей большой библиотеки я прочел единицы процентов. В то время книга была редкостью, объектом охоты. Мною владел спортивный интерес. И я не понимал, что с этим интересом сделать. Первое, что пришло в голову - коллекционировать. Литпамятники, Academia, «Аквилон» - путь стандартный. И если бы меня спросили, каким я вижу свое будущее, ответил бы (может, и отвечал), что буду продавцом в букинистическом магазине, но не в России, а рядом с каким-нибудь западным университетом. Но все это было умозрительно, и делать тогда я ничего для этого не собирался.
Потом я выловил в мутной воде такую рыбку: многие, заработав первые деньги, решали, что следующее, чем они займутся, будет издание газеты. И я стал редактором таких газет. Эти издания редко доживали до второго или третьего номера, хотя начинались бурно. Так за пару лет я наредактировал полдюжины разных газет и журналов на самые разные темы, даже религиозные. Время было такое: молодости, авантюризма, нахальства, шапкозакидательства и чрезвычайно низких профессиональных требований, да и моральных тоже - все друг друга в чем-то обманывали, и о многом, что я тогда делал, мне вспоминать неловко.
Потом в результате всего этого сложилась редакция - фотограф, дизайнер, корректор, редактор. И мы решили не искать следующего заказчика, а создать рекламное агентство. И я в нем был человеком, который нес ответственность перед заказчиком. Это были ужасные времена ночных бдений в типографии. И вырулило это все на то, что лет пять у меня была своя собственная небольшая типография.
«Я с детства любил книги. Именно как объект - мне нравилось в них многое помимо текста и иллюстраций. Я читал выходные данные, запоминал названия гарнитур (шрифтов), меня это волновало». Фото philologist.livejournal.com
- А регулярно происходившие в стране экономические кризисы на вас как влияли?
Я буквально их дитя. Они очень сильно меняли ситуацию. У меня была типография, дизайнерский отдел, и я с гордостью говорил, что все мои сотрудники с высшим художественным образованием. А потом начался кризис, мне пришлось увольнять людей и самому становиться дизайнером, делать разные буклеты, проспекты, каталоги выставок, альбомы.
Но все это время мне хотелось делать книжки. Я об этом помнил и легко расставался со своими сравнительно успешными и денежными занятиями, если мне казалось, что приоткрывается дверь в более книжный мир. Так из производителя рекламной полиграфии я стал дизайнером, потом - книжным дизайнером. Жизнь посылала мне учителей, например, Владимира Кричевского, выдающегося дизайнера. В ходе, в общем, случайного знакомства я предложил ему бесплатно работать на него, лишь бы он меня учил. И это, похоже, дало мне больше, чем любое другое учение (и уж точно больше регулярной «высшей школы»).
Когда я стал дизайнером, оказалось, что в маленьких издательствах есть потребность в тотальном редактировании. То есть хорошо бы, чтобы дизайнер мог работать и с иллюстрациями, и с текстом, умел и дописать, и сократить. И я стал таким универсальным редактором, который делает литературное, художественное и техническое редактирование сам. И до сих пор я таковым остаюсь.
А 10 лет назад, когда был очередной кризис и многие издательства ушли с рынка, а оставшиеся уменьшили объем выпускаемого, я решил делать книжки, как уже умел: все сам. И начал с моих любимых детских книг - тех, что, как я считал, незаслуженно выпали из культурного обихода. В 2009 году вышла моя первая книга - «Собачья жизнь» Людвика Ашкенази с иллюстрациями Тима Яржомбека, я ее не только подготовил, но и финансировал издание. Издательство, значившееся на титульном листе, занималось сбытом. Я сделал десяток (или чуть больше) книг, был замечен коллегами, другие издательства предложили с ними сотрудничать. Сначала «Самокат», потом «Белая Ворона». Тогда как раз был бум малых детских издательств.
В моей жизни случайности всегда играли важную роль. Я обсуждал с коллегами издание книг с большими сложными комментариями. Пока они думали, соглашаться ли на такое (мне нужны были компаньоны, проекты ведь обещали быть дорогими), в моем сознании все уже «строилось», так что, когда все отказались, мне пришлось открыть под это свое собственное издательство. Оно называется «Издательский проект А и Б», последние два десятка книг вышли под такой маркой.
- Как устроена работа вашего издательства или, как его еще называют, мастерской?
Во многом это диктуется экономической ситуацией. У меня нет денег, чтобы нанять квалифицированных сотрудников, но чем-то я должен привлечь людей, чтобы они захотели у меня работать. И я предлагаю воссоздать некое доиндустриальное производство и образование. Подобное сейчас в ходу во всем мире. Это не конвейерное изготовление книги, когда у нее много исполнителей и каждый отвечает за свой участок.
Я создаю как бы средневековый цех: человек приходит, он ничего не умеет, он ученик, его учат на рабочем материале, дают работу в соответствии с его квалификацией, и это не школярская задачка, а настоящая книга. Я плачу ему не стипендию, а небольшую зарплату, которая меньше той, что я платил бы готовому специалисту, но зато он получает образование и практику. И если мой ученик захочет открыть свою мастерскую, я помогу, я могу даже подарить идею первой книги или сведу с издательствами, которые согласятся издать его книгу.
Я никогда не работал с издательствами как наемный сотрудник, только как компаньон. Книга юридически принадлежит мне, авторские права оформлены на меня. Издательство платит мне не гонорар, а делится со мной выручкой. Конечно, издательству не нравится такая ситуация, оно готово идти на это, только если понимает, что само такую книжку сделать не сможет, или если это будет слишком дорого. Надо уметь делать такие книжки, ради которых издательство согласится принять ваши условия.
Я не делаю того, что мне неинтересно, но предположительно успешно. Такого в моей практике пока не было, хотя пора бы уже. Скорее возникает идея, и я ее реализую. Я всегда затеваю серию, это правильно с маркетинговой точки зрения: люди привыкают к оформлению и покупают книгу, даже не зная автора, за счет репутации серии. Но когда установлено серийное производство, сделано пять-десять подобных книг, мне это перестает быть интересным, и появляется следующая идея.
Сейчас мы выпускаем серию «Руслит». Сначала она была задумана как «Лит.памятники», но с оговорками: книги, написанные в XX веке для подростков, снабженные комментариями, но не академическими, а занимательными, мультидисциплинарными, не только историко-филологическими, но и социально-антропологическими и т. п.

«Я никогда не работал с издательствами как наемный сотрудник, только как компаньон. Книга юридически принадлежит мне, авторские права оформлены на меня. Издательство платит мне не гонорар, а делится со мной выручкой». Фото papmambook.ru
«Мы как первопроходцы, которые просто застолбили участки и идут дальше»
- А как вы пришли к тому, чтобы писать большие серьезные комментарии к детским книгам?
Я и в других сериях делал комментарии, мне это было всегда интересно. Я такой зануда, который запросто может, читая ребенку книжку или смотря вместе фильм, вдруг остановиться и спросить: «А ты понимаешь, что имеется в виду?»
Мне повезло, я нашел коллег, которые профессиональные филологи и при этом веселые люди, которым рамки традиционного филологического комментария узковаты. Олег Лекманов, Роман Лейбов, Денис Драгунский… Не стану всех перечислять - вдруг кого забуду. Мы выпустили 12 книг «Руслита». Есть планы на ближайшие год-два.
Так получилось, что эти книги с комментариями неожиданно выстрелили. Раньше запрос на такое если и существовал, то в латентном, скрытом виде, ничего подобного не было, никому это и в голову не приходило. Но теперь, когда это есть, кажется само собой разумеющимся, что можно издать «Денискины рассказы» с двухсотстраничным научным аппаратом.
Кому это нужно? Ну, например, выросшим читателям этих книг, тем, кто эти книги любил и хочет понять, в чем был секрет, проверить свои впечатления. С другой стороны, детская литература, которую мы выбираем, дает нам возможность опробовать новый жанр - это не комментарии в общепринятом смысле слова (объяснение непонятных слов и реалий, биобиблиографические справки), а рассказ о месте и времени действия, который ведется, отталкиваясь от текста.
Мы объясняем многие моменты, которые не требуют объяснения, но у нас есть, что рассказать по этому поводу. Иногда это просто наше детство, с чем мы крепко связаны и знаем многое, что не вычитаешь в книжках. Это даже к Драгунскому относится. Мы помладше Дениски, но тогда реальность менялась медленно, и нам несложно представить, что было десятью годами ранее.
- Раньше никто не занимался комментированием детской литературы?
Детская литература не рассматривалась серьезными филологами до недавнего времени как поле профессиональной деятельности. То ли дело Серебряный век! А какой-то Незнайка - это же несерьезно. И мы просто оказались в Клондайке - это огромное количество открытий, мы не успеваем их обрабатывать. Мы как первопроходцы, которые просто застолбили участки и идут дальше: так интересно, что там дальше, что нет времени и желания разработать открытую делянку. Это неведомое. И любое прикосновение к этому и поход в архив открывает бездну. И новизна нашего подхода «по-взрослому о детском» тоже позволяет использовать интересную исследовательскую оптику. Оказалось, что это очень «канает».
- И кто покупает?
Покупают гуманитарно-ориентированные люди. Те же, кто покупает всякую интеллектуальную взрослую литературу. Это становится родом интеллектуальной литературы для взрослых. При том что там всегда присутствуют собственно произведение, сделанное для детей, крупно набранное, с «детскими» картинками. А комментарий убран в конец, он не мешает получать непосредственное впечатление. Можно прочесть книжку и этим ограничиться. Хотя наличие объемного комментария, конечно, делает книгу дороже.
«Они могли писать для детей, не снижая требований к себе, не становясь на колени ни в прямом, ни в переносном смысле»
Понятно, что ситуация с литературой не константна. Можно было бы предположить, что в любое время есть великие, хорошие, средние и плохие писатели, процент их примерно сопоставим. И в любое время создаются выдающиеся произведения. Но это не совсем так. Были Золотой век, Серебряный век, а между ними - не так густо. И в годы оттепели появилось много хороших детских писателей не просто потому, что наступила свобода (пусть и очень ограниченная). Тут много факторов. Очень многое зависит от стечения обстоятельств, от личностей.
Оттепель - вершина русской детской литературы, тогда в детлит вошло много ярких и свободных талантливых людей. Оттепель не отменила цензуру, но родила желание попытаться «обойти рогатки». Публиковать свои смелые «взрослые» тексты писатели все равно не могли. А детская литература, в которой цензуры было гораздо меньше, позволяла реализовать себя тому, кто в ситуации свободного выбора, скорее всего, не выбрал бы детскую литературу.
Бытовал и, так сказать, «деловой подход». Если почитать, что публиковал в журнале «Костер» Довлатов, станет неловко - это откровенная конъюнктурная халтура. Но было множество «взрослых» писателей, которым такое претило и в детлите.
Создавались неформальные литературные группы. У меня есть серия «Родная речь» в издательстве «Самокат» - это ленинградская литература оттепели. Когда я начал это издавать, то даже не представлял себе, что было такое явление. Но по результатам «полевого исследования» стало ясно, что эти книги и этих авторов многое связывает. Виктор Голявкин, Сергей Вольф, Игорь Ефимов, Андрей Битов, много из ныне здравствующих и пишущих, например, Владимир Воскобойников, Валерий Попов. Круг, который принято определять через имена Довлатова и Бродского, - люди примерно одного времени рождения (предвоенных или военных лет), дети репрессированных (или чудом не-) родителей, воспитанные вне сталинистской парадигмы, которым, условно говоря, 20-й съезд КПСС ни на что не открывал глаза.
И они могли писать для детей, не снижая требований к себе, не становясь на колени ни в прямом, ни в переносном смысле. Они не только не отказывались от идей и задач своей взрослой прозы, не только не смирялись с цензурным гнетом, но даже в детской литературе не руководствовались соображениями «а поймет ли это маленький читатель?» Это тоже одно из важных завоеваний оттепели - тогда не только книжки перестали быть назидательными, дидактическими и идеологически нагруженными, изменился общий тон.
Раньше в детской литературе была четко выстроена иерархия. Есть маленький ребенок, есть взрослый. Взрослый умный, ребенок глупый. Ребенок делает ошибки, а взрослый помогает ему исправиться. А тут раз за разом ребенок оказывается глубже, тоньше, умнее взрослого. И взрослый потрясен.
Например, в рассказе «Девочка на шаре»: Дениска узнает, что «она» уехала - артистка Танечка Воронцова, которую он видел только на арене и еще в мечтах. Как реагирует папа? «Да ладно, зайдем в кафе, съедим мороженое и запьем ситро». А ребенок? Или в другом рассказе: «Как же ты решился отдать самосвал за этого червячка?» «Как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!»

«Драгунский - умелый боец цензурного фронта, он не был диссидентом - человек из мира эстрады, успешный, и нельзя представлять его писателем «из подполья» и жертвой цензуры. Правильнее говорить о цензурировании его рассказов после смерти. Это вещь противная, и это сплошь и рядом». Фото donna-benta.livejournal.com
С другой стороны, и в педагогике роль взрослого человека, глядящего сверху вниз, в оттепель претерпела заметную ревизию, и это пошло на пользу литературе.
Многое менялось в эстетике. Пришедшие в детскую литературу, условный круг Довлатова, пытались залатать, связать разорванную связь времен - ведь еще можно было найти тех, кто застал и помнил Серебряный век, например. Ведь молодежь, по их собственным словам, по словам Бродского, пришла в литературу «из культурного небытия». Битов говорил мне: предыдущее поколение было прилично образованным, знало языки, и когда писатели не могли публиковаться, у них были другие возможности - литературный перевод, академическая карьера. «А нам, вчерашним инженерам, никакой другой возможности не было, кроме как уйти в детскую литературу». С одной стороны, они были воспитаны на вновь пришедшем европейском модернизме: Хемингуэй, писатели «потерянного поколения», Ремарк. И с этим они пришли в детскую литературу. Детская литература тогда черпала из разных источников.
- Вы сказали, что какая-то цензура в детской литературе все же была. Что именно цензурировалось?
Драгунский - умелый боец цензурного фронта, он не был диссидентом - человек из мира эстрады, успешный, и нельзя представлять его писателем «из подполья» и жертвой цензуры. Правильнее говорить о цензурировании его рассказов после смерти. Это вещь противная, и это сплошь и рядом. Простое сравнение прижизненного издания и посмертного выявляет сотни изменений. Их можно свести к нескольким категориям: например, это благопристойность. Скажем, в рассказе «Поют колеса тра-та-та» Дениска едет на поезде с папой, они ночуют на одной полке. И папа спрашивает: «Ты где ляжешь? У стенки?» А Дениска говорит: «С краю. Ведь я два стакана чаю выпил, придется ночью вставать». В оттепельные времена, не такие ханжеские, в этом не было никакого криминала. Но в современных изданиях чая нет.
Еще один, более сложный и парадоксальный, тип правки. Литературная редактура предполагает наличие норм и правил, которым редактор обучен, и он может помочь неумелому автору исправить очевидные огрехи. Зачастую это нужно. Но в случае истинно художественного текста любая редакторская гладкопись хуже авторской шершавости.
Когда я работал с повестью Голявкина «Мой добрый папа», мне достался царский подарок - его собственная правка: перед смертью он готовил переиздание, взял свою книгу с полки и от руки ее выправил (предполагаю, что восстановил то, с чем когда-то пришел к редактору). Представьте себе два варианта диалога: в одном «сказал», «сказал», а в другом - «вспыхнул», «буркнул» и «прошипел». Второй вариант - это редакторская правка: азы профессии - нельзя ставить однокоренные слова рядом. Но «сказал, сказал, сказал» ведь лучше: так передается речь ребенка, его характер и манеры, это он рассказывает, а не взрослый человек. А нарочитая правильность выдает цензора.
Драгунский был стихийный модернист, многие приемы у него прямо как из учебника истории литературы XX века. Скажем, поток сознания. Долгий период без точек, с бесконечными повторами, как будто Дениска взахлеб рассказывает, машет руками: «А он мне, а я ему…» Это было при Драгунском, но в бытующих изданиях текст нарезан на аккуратные фразы, вычищен, убраны повторы, однокоренные слова рядом, все чистенько (мы в нашем издании восстановили старый вариант).
Драгунский очень чувствителен к слову, он написал «мякушек», а не «мякиш», но редактор исправил. Такая книжка, как «Денискины рассказы», несомненное литературное достижение (то есть прежде всего не «что», а «как»), - это текст, где все слова на своем месте, и нельзя без существенных потерь одно заменить другим. Подобные стилистические требования далеко не все детские писатели к себе предъявляют, но у него все точно, тонко, масса нужных мелочей. К примеру, рассказ «Сверху вниз наискосок» (про малярш, которые оставили свой инвентарь, и дети набедокурили). В комментарии мы пишем, что малярш не случайно звали Санька, Раечка и Нелли, это очевидный социальный срез: лимитчица Санька, стиляга Нелли и Раечка - мамина дочка, не поступила с первого раза в институт, зарабатывает трудовой стаж. Драгунский ведет, конечно, взрослую игру, это считывается его кругом, но в этом тоже особенность детской русской литературы оттепели: она принципиально не имеет четкой возрастной ориентации и в нее заложено многое. Это не фиги в кармане, скорее вешки «для своих».
«Книги о Великой Отечественной войне, несмотря на мощный патриотический тренд, родители покупать не спешат»
- Какие детские книги поразили вас как взрослого? Я, например, недавно прочитала повесть «Сахарный ребенок», у нас было интервью с ее автором Ольгой Громовой.
- «Сахарный ребенок» - блестящая книжка (я, кстати, издал книжку о том же самом - и репрессированные родители, и жизнь в эвакуации в Узбекистане - «Девочка перед дверью», написанная в стол в подцензурные времена и публиковавшаяся только в самиздате. Очень рекомендую. И ребенку 7-10 лет вполне будет по зубам).
СССР - огромная страна, очень весомо было литературное слово, много людей писало и много чего написано. Мы затронули только самые вершки. Если бы кто-то просто взялся прочитать подборку за полвека какого-нибудь регионального журнала вроде «Сибирских огней» или «Уральского следопыта», то наверняка нашел бы там столько сокровищ, никому не ведомых.
Я не успеваю издавать все книги, какие хочу. Этот тренд, в создании которого я сыграл не последнюю роль, - переиздание советского - меня уже несколько ограничивает. И я откладываю или даже отменяю запланированное. Например, я думал об издании книг Сергея Иванова. Он известен как автор сценария мультфильма «Падал прошлогодний снег», но и кроме «Снега» он написал немало хорошего. «Ольга Яковлева», «Бывший Булка и его дочь» (там, кстати, всерьез говорится о смерти, часть действия происходит в онкологической больнице - этой темы, по расхожему мнению, в советском детлите не касались). Но главное мое потрясение от знакомства с не читанным в детстве - «В ожидании козы» Евгения Дубровина. Книга настолько напряженная, настолько страшная, что я не решился взяться. Это о послевоенном голоде, конец 1940-х. А потом ее переиздала «Речь» - ну, таким как бы «точь-в-точь» способом.

«Я не успеваю издавать все книги, какие хочу. Этот тренд, в создании которого я сыграл не последнюю роль - переиздание советского - меня уже несколько ограничивает. И я откладываю или даже отменяю запланированное». Фото jewish.ru
Многие детские писатели, с которыми мы общались, говорят, что в России родители не принимают детскую литературу, в которой поднимаются неоднозначные темы (например, суицида, инцеста, гомосексуализма), хотя на Западе подобные книги встречают спокойно. Как вы относитесь к этому?
На Западе, вероятно, считается: если что-то существует и ребенок может с этим столкнуться, литература не должна пройти мимо. Поэтому инцест и педофилия - это вполне «тема». Но на самом деле примерно такое же неприятие у нашей родительской общественности существует в отношении традиционных вполне открытых тем. Я основываюсь на личном опыте - много раз торговал на книжных ярмарках в разных городах. И много разговаривал с родителями.
Книги о Великой Отечественной войне, несмотря на мощный патриотический тренд и большие усилия государства, родители покупать не спешат. «Тяжело, зачем это, нет у вас чего повеселее?» Факт, что недостаточность эмпатии, умения сопереживать, отсутствие специальной установки на развитие эмпатии - одна из основных черт российского современного общества. Это видно и отсюда, с другой стороны книжного прилавка.
Люди не потому не хотят купить книгу о ребенке-инвалиде или неизлечимой болезни или вообще о смерти, что это «неприлично» или вступает в конфликт с их педагогическими установками. Это тяжело - «подрастет и сам узнает, а пока не нужно». То есть проблема вовсе не в продвижении текстов об инцесте, плохо идут и покупаются тяжелые драматические книги, родители сами не хотят это читать. Ну, не все, но в массе.
- А что вы думаете о современной подростковой литературе в России?
Я пока не занимаюсь этим как издатель, но в этом году надеюсь издать первую современную книгу, написанную сейчас о 90-х годах. Мне кажется, что для того, чтобы наступил расцвет, нужно профессионализировать среду. Чтобы появились 10 выдающихся книг, нужно написать и издать 100 просто хороших. Чтобы научились хорошо рассказывать истории. И это, по-моему, уже достигнуто. Не уверен, что написано 10 выдающихся книг, но то, что написано 25 или даже 50 хороших, я ручаюсь. Новые детские писатели сейчас пишут так, что экспертному совету книжной премии трудно выбирать победителей.
Наталия Федорова
Справка
Илья Бернштейн - независимый редактор, комментатор и издатель, лауреат премии Маршака в номинации «Проект десятилетия», занимается переизданием советской детской классики и произведений времен «оттепели» с комментариями и дополнительными материалами. Издатель («Издательский проект А и Б»), редактор, комментатор, составитель серий «Руслит» («А и Б»), «Родная речь» и «Как это было» (совместно с издательством «Самокат») и других изданий.
На прошедшей в конце ноября ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction независимый издатель Илья Бернштейн праздновал своеобразный юбилей: им подготовлены и изданы пятьдесят книг. Чем не повод поговорить?
Ксения Молдавская → Мы можем встретиться в пятницу?
Илья Бернштейн ← Только давай утром: шабаты нынче ранние.
КМ → Что для тебя соблюдение шабата? Вопрос веры? Самосознания? Чего‑то еще, что я не могу сформулировать?
ИБ ← Ну, веры, наверное, и самосознания, и чего‑то, что не можешь сформулировать, — тоже.
У меня есть сестра, старше меня на одиннадцать лет. В середине семидесятых, в пору «религиозного возрождения учеников матшкол», она стала соблюдающей еврейкой и, в общем, до сих пор ею остается. Сестра была для меня авторитетом во всех смыслах — и в моральном, и в интеллектуальном. Поэтому я с детства относился к ее убеждениям очень сочувственно и ходил в синагогу еще в нежном возрасте. Сначала «технически», потому что застал еще пожилых родственниц, которым надо было, например, помочь купить мацу. Потом стал ходить по праздникам, но не вовнутрь еще, а так, на улице потусоваться. Постепенный дрейф, вполне естественный: сначала — без свинины, потом без некошерного мяса и так далее. Не думаю, что когда‑нибудь приду к «датишному» варианту, но в синагогу я хожу и субботу соблюдаю.
КМ → Но кипу не носишь все же.
ИБ ← Нет такой заповеди — постоянно носить кипу. В обиходе ортодоксального еврея есть то, что «по Торе», а есть — «по мудрецам». Последнее для меня важно и интересно, но как бы не строго обязательно. Но, вообще, дома часто хожу в кипе.
КМ → Кстати, о мудрецах. Когда мы с тобой познакомились, ты работал в умном издательстве «Теревинф»…
ИБ ← Нет. Я с ними сотрудничал, причем и как фрилансер, и как болельщик и друг. «Теревинф» сначала был редакционно‑издательским отделом Центра лечебной педагогики, и до сих пор его основное направление — книги о детях с нарушениями развития. Когда я решил в 2009 году начать собственную издательскую деятельность, то предложил им расширить ассортимент. Так возникла серия книг «Для детей и взрослых», а мы с «Теревинфом» стали компаньонами.
Я много лет занимался за деньги редактированием книг. Начал в середине девяностых, выучился самостоятельно на книжного дизайнера и книжного редактора. Делал и текст, и оформление, и верстку. Мне хотелось стать издателем, но при этом я осознавал свой интеллектуальный потолок. Сложные взрослые книги мне и читать‑то трудно, а уж тем более — разбираться на таком уровне, чтобы их комментировать и замысел понимать не хуже автора. Вот детское, подростковое — в этом я достаточно разбираюсь: могу оценить, как это сделано, увидеть сильные и слабые стороны, уж точно могу прокомментировать. У меня, вообще, есть желание пояснять, рассказывать, «вводить в культурно‑исторический контекст» — такое занудство. Мне дети, когда садимся смотреть кино, говорят: «Только ни в коем случае не нажимай паузу, чтобы объяснять». То, что я люблю объяснять, и то, что я четко осознаю свои возможности, привело меня к выбору детской литературы как профессиональной и бизнес‑области.
КМ → Твои «теревинфовские» книжки явно из твоего детства. Сейчас видно, что твой выбор строится на чем‑то еще, кроме личного читательского опыта.
ИБ ← Я начал делать с «Самокатом» серию книг «Как это было», потому что история войны стала частью идеологической борьбы, стала приватизироваться «противоборствующими сторонами». И я попытался добиться объективности — начал издавать автобиографическую военную прозу, прокомментированную современными историками. Когда я сделал первые четыре книги, стало ясно, что это, вообще, ход, и теперь позиционирую эту серию как «Русский двадцатый век в автобиографической беллетристике и комментариях историков». Я сейчас стал делать вокруг художественного произведения большой продукт с медийным контентом — видеокомментарии, комментирующий книгу сайт, — все это в поисках способов «объяснить».
КМ → Комментарий к «Кондуиту и Швамбрании» тебе написал Олег Лекманов, и теперь читателя дрожь пробирает от того, насколько трагична книга Кассиля. В детстве такого ощущения не было, хотя было понятно, что последняя перекличка — это предвестник трагедии.
ИБ ← Ну, тут трудно говорить объективно, потому что мы знаем, чем все закончилось и для этих людей — литературных героев и их реальных прототипов. И про Оську, который, по сути, главный герой, — уж в эмоциональном отношении точно, — знаем, что сначала он стал ортодоксальным марксистом, а потом был расстрелян. Это настолько сильно эмоционально окрашивает текст, что невозможно его воспринять, абстрагировавшись. Но мне книжка не кажется трагической. Она достоверная, рассказывает о страшном времени, и наше знание об этом и дает ту глубину трагизма, которую ты ощутила. Основное отличие моего издания от привычных не в трагизме, а прежде всего — в национальной теме. Место действия — Покровск — будущая столица Республики немцев Поволжья, а тогда — центр колонистских земель. В 1914 году в России были очень сильны антинемецкие настроения и случались немецкие погромы, а книга как раз вся пронизана антиксенофобским пафосом. Герой сочувствует оскорбляемым немцам, и в 1941 году этот текст стал совершенно непечатным. Потребовалось изъять целые главы, а оставшихся героев‑немцев переименовать.
Довольно много изъято и еврейского. Эпизод про «нашу кошку, которая тоже еврей», — единственный оставшийся. В оригинальном издании много сказано об антисемитизме. У Кассиля была антисемитка бонна, его оскорбляли в классе… При подготовке издания сорок восьмого года это, естественно, тоже было убрано.
Интересно, что в процессе подготовки комментариев я узнал, что дедушка Льва Кассиля Гершон Менделевич был хасидским раввином из Паневежиса, что уже нетривиально, возглавлял хасидскую общину Казани.
КМ → По книге складывается впечатление, что семья была прогрессивная, если не атеистическая…
ИБ ← Ну, я подозреваю, что это не совсем правда, как и у Бруштейн. Сомневаюсь, что вот прямо атеистическая… Кассили выбрали светскую жизнь, но вряд ли отказались от еврейства. Наверное, медицинское образование сдвигает мышление в условно «позитивистскую» сторону, но чтоб он прямо начал ветчину лопать — большие сомнения. Хотя, конечно, у каждого своя история. Но и Анна Иосифовна, мать, была из традиционной еврейской семьи, и отец Абрам Григорьевич акушером был, что тоже традиционный (отчасти и вынужденный) выбор еврея‑врача. А дед был хасидом. Но это надо еще расследовать.
КМ → Будешь?
ИБ ← Я — нет. Мне при работе попадается много интересных, еще не исследованных вещей. Но я же не филолог и не историк. С «Республикой ШКИД» мы вообще нашли тему, которая может все поставить с ног на голову, но никто ею пока не занимался. Есть такая повесть, «Последняя гимназия», написанная другими шкидовцами, Ольховским и Евстафьевым, уважаемыми людьми и друзьями Пантелеева с Белых. В ней описана совсем другая реальность, гораздо страшней, намного больше похожая на ту, что отражена на страницах брошюр 1920‑х годов, вроде «О кокаинизме у детей» и «Сексуальная жизнь беспризорников». И дети, и учителя, и директор Викниксор никак не вписываюся в образы, созданные Белых с Пантелеевым, еще менее похожи на героев экранизации Геннадия Полоки.
КМ → Издашь?
ИБ ← Нет, она художественно несостоятельна. Это рапповская такая нелитературная литература. Зато я делаю «Дневник Кости Рябцева», с рассказом о педагогических экспериментах 1920‑х: и о педологии, и о дальтон‑плане, и о комплексном и бригадном методах обучения, и других нетривиальных идеях. У меня это личная история. Моя бабушка была педологом, Раиса Наумовна Гофман. Окончила педологический факультет 2‑го МГУ, училась, наверное, у Выготского и Эльконина. И в теревинфовском издании «Дневника Кости Рябцева» я поместил фотографию бабушки за работой.